Дальний остров
Дальний остров
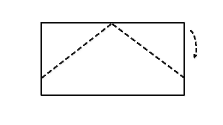
На юге Тихого океана, в пятистах милях от берегов центральной части Чили, есть вулканический остров с очень крутыми скалистыми берегами, семь миль в длину и четыре в ширину, — остров, где живут миллионы морских птиц и тысячи морских котиков, но совсем нет людей, если не считать горстки рыбаков, приплывающих в теплый сезон ловить омаров. Чтобы добраться до острова, который официально называется Александр-Селькирк, надо вначале перелететь из Сантьяго на восьмиместном самолете, совершающем рейсы дважды в неделю, на другой остров, расположенный на сто миль восточнее. Затем доплыть на небольшом открытом судне от взлетно-посадочной полосы до единственной деревни архипелага Хуан-Фернандес, там дождаться одного из катеров, от случая к случаю отправляющихся в двенадцатичасовое плавание по открытому морю, а потом зачастую ждать дальше, порой не один день, пока не установится погода, подходящая для высадки на скалистый берег. В шестидесятые годы чилийские чиновники, ведающие туризмом, переименовали остров в честь Александра Селькирка, шотландского матроса, чья одинокая жизнь на этом архипелаге, вероятно, послужила основой для романа Даниеля Дефо «Робинзон Крузо»; однако местные жители и сейчас называют остров по-старому: Мас-Афуэра, то есть Дальний.
В конце прошлой осени мне просто необходимо было забраться куда-нибудь подальше от всех. Я четыре месяца без отдыха занимался популяризацией своего романа, шел по очень жесткому графику и все больше чувствовал себя ромбиком, движущимся по полосе состояния медиаплеера. Целые пласты моей личной истории мертвели, потому что я слишком много о них говорил. И каждое утро те же подстегивающие дозы никотина и кофеина, каждый вечер тот же штурм очереди скопившихся за день электронных писем, каждый поздний вечер те же отупляющие порции алкогольного удовольствия. И однажды, прочитав про Мас-Афуэру, я вообразил, как сбегу туда и останусь один, подобно Селькирку, во внутренней части острова, где никто не живет даже в теплое время года.
А еще я подумал, что хорошо бы, пока я там буду, перечитать книгу, которую обычно называют первым английским романом. «Робинзон Крузо» — великий ранний памятник радикального индивидуализма, история практического и психического выживания обычного человека в глубокой изоляции. Индивидуалистическая инициатива романиста — поиски смысла в реалистическом повествовании — на три века определила главенствующую литературную форму в нашей культуре. Голос Крузо слышится в голосах Джейн Эйр, «подпольного человека» у Достоевского, человека-невидимки у Уэллса, Рокантена у Сартра. Все эти произведения волновали меня при чтении, и в самом слове novel (роман), сулящем novelty (новизну), жива память об этих и других литературных впечатлениях молодости, поглощавших меня настолько, что я часами сидел на месте и не испытывал даже намека на скуку. Иан Уотт в своей классической книге «Становление романа» связал бурный количественный рост романной продукции в xviii веке с растущим спросом на домашние развлечения со стороны женщин, избавленных от традиционных хозяйственных забот и получивших слишком много свободного времени. Английский роман, согласно Уотту, в прямом смысле возрос из праха скуки. А скука была именно тем, от чего я страдал. Чем чаще прибегаешь к искусственным средствам борьбы с ней, тем менее эффективными они становятся; так что мне приходилось повышать и повышать дозы, пока незаметно для себя я не начал проверять электронную почту каждые десять минут, пока порции жевательного табака не стали у меня очень большими, пока мои две рюмки на ночь не превратились в четыре, пока я не достиг в компьютерном «солитере» такого мастерства, что целью моей было уже не выиграть партию, а выиграть подряд не меньше двух партий — этакий «метасолитер», где интерес состоит не в игре как таковой, а в скольжении по волнам беспроигрышных серий. Самой длинной на тот момент была у меня серия из восьми выигрышей.
Я договорился, что меня доставит на Мас-Афуэру маленькое судно, зафрахтованное группой предприимчивых ботаников. Потом предался небольшой консьюмеристской оргии в REI,[2] где романтика робинзонад обитает в отделе ультралегкого снаряжения, — в особенности, пожалуй, в таких символах цивилизации среди первозданной природы, как бокал для мартини из нержавеющей стали с отделяющейся ножкой. Помимо нового рюкзака, палатки и ножа я обзавелся такими новомодными приспособлениями, как пластиковая тарелка с силиконовым ободом, которую можно, подняв этот обод, превратить в миску; как таблетки аскорбиновой кислоты, нейтрализующей вкус йода, которым надо будет дезинфицировать воду; как полотенце из микроволокна, в сложенном виде влезающее в невероятно маленький футлярчик; как пакеты с сублимированным органическим вегетарианским чили; как неломающаяся вилка. Кроме того, я запасся в большом количестве орехами, тунцом и белковыми батончиками: мне сказали, что, если погода ухудшится, я могу застрять на Мас-Афуэре надолго.
Накануне вылета в Сантьяго я навестил свою приятельницу Карен, вдову писателя Дэвида Фостера Уоллеса. Когда я уже собирался уходить, она неожиданно спросила, не мог ли бы я взять с собой и развеять на Мас-Афуэре часть праха, оставшегося после кремации Дэвида. Я согласился, и тогда она нашла старинный деревянный спичечный коробок — крохотную «книжечку» с выдвижным ящичком — и всыпала туда горстку праха, сказав, что мысль о частичках Дэвида, которые обрели покой на отдаленном необитаемом острове, будет для нее утешительна. Лишь немного погодя, отъехав от ее дома, я понял, что она дала мне прах не только ради себя и Дэвида, но и ради моего блага. Она знала от меня самого, что мое нынешнее бегство от себя началось два года назад, вскоре после смерти Дэвида. Тогда я решил положить конец размышлениям об ужасном самоубийстве человека, которого так сильно любил, уйти от них в злость и работу. Но теперь, когда работа была завершена, труднее стало игнорировать то, что по одной, очень даже правдоподобной, версии его самоубийства Дэвида погубила скука и отчаяние из-за его писательского будущего. Почему у скуки, мучившей последнее время и меня, был привкус отчаяния? Не потому ли, что я нарушил обещание, данное самому себе? Обещание, что, написав книгу и исполнив все сопутствующие обязательства, я позволю себе испытать из-за смерти Дэвида нечто большее, нежели скоротечное горе и непреходящая злость.
И вот последним утром января в густом тумане я прибыл на место на острове Мас-Афуэра, которое называется Ла-Кучара (Ложка). Высота три тысячи футов над уровнем моря. С собой у меня имелись блокнот, бинокль, «Робинзон Крузо» в мягкой обложке, миниатюрная «книжечка» с останками Дэвида, рюкзак с туристским снаряжением, неточная до нелепости карта острова — и ни алкоголя, ни табака, ни компьютера. Если не считать того, что до места мне помогли добраться молодой человек из природоохранной службы и мул, на которого мы навьючили мой рюкзак, да еще того, что по настоянию заботливых знакомых я взял с собой рацию, выпущенный десять лет назад GPS-навигатор, спутниковый телефон и несколько запасных батареек, я был совершенно оторван от мира и одинок.
Я впервые познакомился с «Робинзоном Крузо», когда книгу прочел мне вслух отец. Это был единственный роман, помимо «Отверженных», что-то для него значивший. Удовольствие, с которым он читал мне «Робинзона», ясно показывало: отец отождествляет себя с Крузо так же глубоко, как с Жаном Вальжаном (последнего он, самоучка, не знакомый с французским произношением, называл Джином Вэлджином). Подобно Крузо, мой отец чувствовал себя обособленным от других, был тверд в своей житейской умеренности, верил в превосходство западной цивилизации над «дикарством» прочих культур, полагал, что природный мир надлежит подчинять себе и эксплуатировать, и был мастером на все руки. Выживание собранного, ответственного человека на пустынном острове в окружении каннибалов было для отца идеальным сюжетом романа. Он родился в заброшенном городке, построенном первопроходцами, в числе которых были его отец и дяди, и с юных лет работал на строительстве дорог, живя в лагерях среди северных болот. В подвале нашего дома в Сент-Луисе у него была аккуратная мастерская, где он точил свои инструменты, чинил одежду (он был хорош и в портняжном деле) и изготавливал из дерева, металла и кожи крепкие вещи, необходимые для хозяйства. Несколько раз в год он вывозил меня с друзьями на природу с ночевкой, сам, пока мы резвились в лесу, разбивал лагерь, из грубых старых одеял устраивал себе постель подле наших спальных мешков с синтетическим наполнителем. В какой-то мере, думаю, идея вывозить меня на природу служила для него предлогом, чтобы самому выбираться в лес.
Мой брат Том, умелец не хуже нашего отца, после того как уехал учиться в колледж, всерьез увлекся пешим туризмом. Я слушал рассказы Тома — которому во всем пытался подражать — о десятидневных одиночных походах по Колорадо и Вайомингу и мечтал тоже стать пешим туристом. Первая возможность представилась мне в шестнадцать лет, когда я уговорил родителей позволить мне участвовать в летнем школьном факультативе под названием «Поход по западным краям». В автобусе, полном подростков и вожатых, мы с моим другом Уайдманом отбыли к Скалистым горам, где нам предстояли две недели «исследований». При мне был старомодный красный рюкзак Тома фирмы «Джерри», а в нем — блокнот (точно такой же, какой брал с собой Том) для записей о лишайниках, которые я более или менее наугад выбрал темой своих исследований.
На второй день похода по национальной зоне отдыха Сотус-Уайлдернесс в Айдахо каждому из нас предложили провести двадцать четыре часа в одиночестве. Мой вожатый отвел меня в негустую рощицу желтых сосен, оставил там одного, и очень скоро, хотя день был ясный и не предвещал ничего опасного, я уже лежал, съежившись, в палатке. Чтобы ощутить пустоту жизни и ужас существования, мне, таким образом, хватило нескольких часов без человеческого общества. На следующий день я узнал, что Уайдману, который, кстати, на восемь месяцев старше меня, сделалось так одиноко, что он вернулся к месту, откуда был виден базовый лагерь. Я сумел выдержать — и, более того, почувствовал, что смог бы пробыть один и дольше суток, — благодаря тому, что принялся писать.
Четверг, 3 июля
Сегодня вечером я начинаю вести записи. Если кто-нибудь их прочтет, он, надеюсь, простит, что я налегаю на местоимение «я». Я ничего не могу с этим поделать. Ведь я же пишу.
Когда я вернулся сегодня после ужина к своему костру, я в какой-то миг почувствовал, что моя алюминиевая кружка — это мой друг и он, сидя на камне, испытующе смотрит на меня…
Сегодня днем одна муха (по крайней мере, мне кажется, что это была одна и та же) страшно долго жужжала вокруг моей головы. Прошло какое-то время, и я перестал думать о ней как о назойливом, гадком насекомом, я подсознательно пришел к мысли, что это противник, к которому я на самом деле отношусь с любовью, что мы просто играем так друг с другом.
И еще сегодня днем (это было главное, чем я занимался) я сидел на выступе скалы и пытался выразить в стихах — в сонете, — как мне в разное время по-разному виделась цель моей жизни (три точки зрения). Сейчас я, конечно, вижу, что напрасно старался, ведь я даже прозой не могу этого сделать. Однако, занимаясь этим, я уверился, что жизнь — зряшная трата времени, примерно так. Я до того опечалился и разнервничался, что все мысли были полны отчаяния. Но потом посмотрел на лишайники, записал о них кое-что, успокоился и подумал, что грустил я не от бесцельности жизни, а от незнания, кто я и зачем существую, и еще оттого, что я не показал родителям свою любовь к ним. Последнее было близко к истине, но следующая моя мысль была немного мимо. Я подумал: вся беда в том, что мало времени, что жизнь слишком коротка. Это, конечно, так, но моя печаль была не из-за этого. Вдруг меня осенило: я тоскую по родным.
Поставив себе диагноз «тоска по дому», я смог бороться с болезнью при помощи писем домой. До конца похода я и в дневнике каждый день что-то писал, и само собой вышло, что я стал отдаляться от Уайдмана и все больше внимания обращал на девушек; никогда раньше я не добивался таких успехов в общении. Чего мне прежде не хватало — это некоего, хотя бы даже и не вполне отчетливого, представления о своей личности, а тут, в одиночестве, заполняя страницу фразами от первого лица, я такое представление обрел.
Немало лет потом я подумывал о новых походах, но не настолько целеустремленно, чтобы взять и отправиться куда-нибудь. Личность, которую писание помогало мне в себе открывать, все-таки не была идентичной личности Тома. К его старому рюкзаку фирмы «Джерри» я, однако, прикипел душой, хотя для повседневного использования он был не слишком удобен, и я подпитывал свои мечты о дикой природе, покупая дешевые второстепенные принадлежности туристского быта — такие, как, например, гигантский флакон мятного жидкого мыла «Доктор Броннер», которое Том не раз мне расхваливал. Собираясь в колледж перед началом последнего учебного года, я положил «Доктора Броннера» в рюкзак, но по дороге в автобусе флакон лопнул — и моя одежда и книги намокли. Когда я попытался отмыть рюкзак под душем в общежитии, ткань расползлась у меня в руках.
Остров Мас-Афуэра, когда я приближался к нему на катере, выглядел не слишком гостеприимно. Моя единственная карта острова была распечаткой с сайта Google Earth на листе стандартного размера, и я сразу же увидел, что перед поездкой излишне оптимистично истолковал обозначенные на ней контуры. То, что на карте казалось крутым холмом, было отвесным утесом, то, что казалось пологим склоном, было крутым холмом. С десяток хижин, где находили приют ловцы омаров, сгрудились на дне громадного ущелья меж двух зеленых «плеч» острова, вздымавшихся на высоту три с половиной тысячи футов и, точно шапкой, накрытых мрачно клубящейся тучей. Океан, всю дорогу казавшийся относительно спокойным, гнал к берегу волны, они высоко вскидывались в проходе между скалами пониже хижин. Чтобы попасть на остров, мы с ботаниками спрыгнули в рыбацкую моторную лодку и подошли на ней к берегу на расстояние в сотню ярдов. Там лодочники заглушили мотор, мы взялись за канат, прикрепленный к бую, и стали подтягиваться к берегу. Когда мы совсем приблизились к скалам, лодку беспорядочно закачало, и, пока лодочники подсоединяли трос, который должен был нас вытащить, вода начала перехлестывать через кормовой борт. На берегу было неимоверное количество мух — недаром остров прозвали Мушиным. Сквозь открытые двери некоторых хижин аудиоплееры, соревнуясь в громкости, посылали навстречу гнетущей огромности ущелья и холодному океанскому прибою потоки северо— и южноамериканской музыки. И, словно мало было во всем этом негостеприимства, за хижинами высилась роща больших мертвых деревьев, выбеленных до цвета кости.
Внутрь острова меня сопровождали молодой рейнджер Данило и мул с невозмутимой мордой. Вид крутого склона, по которому надо было подниматься, не позволял даже изображать недовольство тем, что мне не придется нести свой рюкзак. За спиной у Данило висела винтовка, из которой он надеялся подстрелить кого-нибудь из некоренной популяции коз, пережившей недавнюю попытку одной нидерландской экологической организации уничтожить ее. Под серыми утренними тучами, вскоре превратившимися в туман, мы двигались по бесконечному серпантину и пересекли ложбину, густо поросшую маки? — привнесенным сюда людьми видом, который используют при починке ловушек для омаров. На тропе в обескураживающем количестве лежал оставленный мулами помет; из живых тварей мы видели только птиц: маленького серобокого водяного печника и нескольких хуан-фернандесовских канюков. Это два из пяти сухопутных видов птиц, встречающихся на Мас-Афуэре. Кроме того, этот остров — единственное известное место гнездования двух интересных видов буревестника и одной из редчайших певчих птиц планеты — островной райадито, которую я надеялся увидеть. Честно говоря, к тому времени как я вылетел в Чили, наблюдение за редкими птицами осталось единственным занятием, о котором я точно мог сказать, что оно не вызовет у меня скуку. Популяция райадито, б?льшая часть которой живет на маленьком высокогорном участке острова, называемом Лос-Иносентес, насчитывает сейчас, как полагают, всего пятьсот особей. Очень немногие хоть раз видели эту птицу.
До Ла-Кучары мы с Данило добрались раньше, чем я ожидал, и в тумане показались очертания маленького рефухио — приюта для рейнджеров. На три тысячи футов мы поднялись всего за два часа с небольшим. Я знал, что в Ла-Кучаре есть рефухио, но воображал себе примитивную хижину и не предвидел, какая передо мной встанет проблема. Островерхая крыша приюта крепилась к земле тросами-растяжками, внутри имелись пропановая плитка, двухъярусная койка с поролоновыми матрасами, малопривлекательный, но годный к использованию спальный мешок и шкафчик, набитый макаронными изделиями и консервами; стало ясно, что я мог не брать сюда ничего, кроме йодистых таблеток, и выжил бы. Наличие рефухио делало мой и без того довольно-таки искусственный проект одиночного самодостаточного существования еще более искусственным, и я решил вести себя так, будто никакого рефухио нет.
Данило снял с мула мой рюкзак и по окутанной туманом тропке провел меня к ручейку, который образовал в одном месте маленький водоем. Я поинтересовался, можно ли дойти отсюда до Лос-Иносентес. Данило показал рукой вверх по склону: «Да, это три часа по кордонес». Я подумал было спросить, можно ли отправиться туда вместе прямо сейчас, — хотелось разбить лагерь поближе к райадито, — но моему проводнику явно не терпелось вернуться на берег. Он отбыл с мулом и со своей винтовкой, а я приступил к робинзоновским делам.
Прежде всего следовало набрать и очистить немного воды для питья. Взяв фильтрующий насос и брезентовый мешок для воды, я двинулся по тропке, ведущей, как мне казалось, к водоему, до которого от рефухио было, я знал, шагов семьдесят, не больше, — и мигом заблудился в тумане. Когда наконец, перепробовав несколько тропок, я выбрался к водоему, выяснилось, что шланг насоса лопнул. Насос я купил лет двадцать назад, надеясь, что он мне пригодится, если я когда-нибудь надумаю один отправиться в глухие места, но пластик за это время стал хрупким. Я наполнил мешок довольно мутной водой, а затем, вопреки своему же решению, вошел в рефухио, вылил воду в большую кастрюлю и кинул туда несколько йодистых таблеток. На эти простые действия почему-то ушел целый час.
Раз уж я оказался в рефухио, я снял одежду, мокрую от росы и тумана, переоделся и попытался туалетной бумагой — ее у меня было в избытке — высушить изнутри ботинки. Я обнаружил, что GPS-устройство — единственное, для которого я не захватил запасных батареек, — весь день было включено и тратило энергию впустую. Тревогу, которую это у меня вызвало, я пытался заглушить тем, что принялся стирать с пола рефухио жидкую грязь очередными комками туалетной бумаги. Наконец, выйдя наружу, я отважился в поисках места для лагеря за пределами окружавшего рефухио пояса из мулиного помета обследовать продолговатую каменистую площадку над обрывом. У меня над головой совершил пикирующий бросок канюк; с валуна нахально подал голос водяной печник. После долгих хождений, взвесив всевозможные «за» и «против», я выбрал ложбинку, которая немного защищала от ветра и имела еще одно преимущество: оттуда не было видно рефухио. Там я перекусил сыром и копченой колбасой.
С тех пор как я остался один, прошло четыре часа. Я поставил палатку, притянув каркас к валунам и придавив колышки самыми тяжелыми камнями, какие мог притащить; затем сварил кофе на своей маленькой бутановой плитке. Вернувшись в рефухио, я возобновил труды над промокшей обувью, прерываясь каждые пять минут, чтобы открыть окна и выдворить мух, которые раз за разом находили способы проникнуть внутрь. Отлучить себя от удобств, предлагаемых рефухио, оказалось не легче, чем от тех современных средств против скуки, от которых я, собственно, сюда и сбежал. Я принес еще один мешок воды и на пропановой плитке в большой кастрюле нагрел себе воды для мытья; после этого просто-напросто намного приятнее было вернуться в помещение и там вытереться полотенцем из микроволокна и одеться, чем проделывать это в грязи и туманной сырости. Раз уж я дал такую слабину, то пошел еще дальше: перетащил один из матрасов на каменистую площадку и положил его в палатку. «Но это все, — сказал я себе вслух. — Других поблажек не будет».
Если не считать жужжания мух и раздававшихся порой трелей печника, тишина вокруг моего лагеря стояла полная. Иногда туман немного рассеивался, становились видны скалистые склоны и влажные, заросшие папоротником долины, но потом видимость опять ухудшалась. Я достал блокнот и записал все, что сделал за прошедшие семь часов: принес воды, поел, поставил палатку, помылся. Подумал было, не написать ли, налегая на местоимение «я», что-нибудь исповедальное, но почувствовал, что стесняюсь. Явно за последние тридцать пять лет я так привык выражать себя опосредованно, через вымысел, через повествование, что мог теперь использовать дневник только для решения внутренних проблем и самоанализа. Даже тогда, в Айдахо, подростком я писал не из глубин отчаяния, а уже потом, благополучно его преодолев, — теперь же и подавно для меня что-то значили только истории, рассказанные ретроспективно, где отобрано важное, где жизненный материал прояснен.
Мой план на завтра состоял в том, чтобы попытаться увидеть райадито. Сама мысль, что на острове есть эта птица, делала его интересным для меня. Выискивая птиц новых для себя видов, я ищу утраченную во многом первозданность, остатки мира, ныне в немалой степени разгромленного людьми, но по-прежнему великолепно безразличного к нам; удовольствие от наблюдения за редкой птицей, каким-то образом ухитряющейся даже сейчас жить и размножаться, велико и стойко. Я решил, что завтра встану на рассвете и весь день, если понадобится, потрачу на то, чтобы добраться до Лос-Иносентес и вернуться назад. Ободренный перспективой этого весьма нелегкого испытания, я приготовил себе миску чили, а затем, хотя еще не стемнело, застегнулся у себя в палатке. На очень удобном матрасе, в спальном мешке, который сохранился у меня со школьных лет, с туристским фонариком на лбу, я принялся за чтение «Робинзона Крузо». И впервые за весь день почувствовал себя счастливым.
Одним из самых больших первых поклонников «Робинзона Крузо» был Жан-Жак Руссо, в «Эмиле» предложивший положить этот текст в основу воспитания детей. Следуя утонченной французской традиции изъятия нежелательных мест, Руссо имел в виду не всю книгу, а ее длинную центральную часть, где Робинзон рассказывает о четверти века, прожитой им на необитаемом острове. Мало кто из читателей будет спорить с тем, что это самая захватывающая часть романа, в сравнении с которой приключения Робинзона до и после (рабство у турецкого пирата, нападение огромных волков и успешная защита от них) выглядят тусклыми и рутинными. Притягательная сила истории о выживании отчасти объясняется наглядностью расказанного: от товарищей Робинзона по плаванию после кораблекрушения «и следов не осталось, кроме трех шляп, одной фуражки да двух непарных башмаков»;[3] в тексте также подробно перечисляется все полезное, что Робинзон переправил на остров с разбитого корабля; во всех деталях описывается, как он подкрадывался к обитавшим на острове диким козам, как с нуля осваивал способы изготовления мебели, лодок, гончарных изделий, выпечку хлеба. Но главное, что оживляет эти приключения без приключений, делает их необычайно увлекательными, — это их доступность воображению обычного читателя. Понятия не имею, что бы я делал, попади в рабство к турку или окажись среди голодных волков; скорее всего, я был бы слишком напуган, чтобы вести себя так же, как Робинзон. Но каждый, кто читает, как он на практике решал проблему пропитания, защищался от холода и непогоды, боролся с болезнью, с одиночеством, приглашается внутрь повествования, получает возможность вообразить, что бы я делал в подобных тяжелейших обстоятельствах, сравнить свою собственную жизнестойкость, находчивость, трудолюбие с его (именно этим, уверен, книга привлекала моего отца). До тех пор пока на уединенный остров не вторгается окружающий мир в лице воинственных людоедов, Робинзон и его читатель пребывают вдвоем, и читателю очень уютно. В повествовании, более насыщенном действием, описания повседневных занятий и переживаний Робинзона были бы тем, что литературовед Франко Моретти с оттенком пренебрежения называет «наполнителем». Великим изобретением Дефо, пишет Моретти, было резкое расширение этого «наполнителя»; такого рода рассказ о повседневности стал затем обычной принадлежностью реалистической художественной прозы — от Остин и Флобера до Апдайка и Карвера.
Обрамляют «наполнитель» Дефо и в какой-то мере проникают в его толщу элементы других, предшествующих крупных прозаических форм: античного эллинистического романа, включавшего в себя истории о кораблекрушениях и порабощении; католической и протестантской духовной автобиографии; средневекового и ренессансного рыцарского романа; испанского плутовского романа. Роман Дефо следует, кроме того, традиции повествований, без должного почтения основанных или якобы основанных на событиях из жизни реальных, известных публике лиц; в случае «Крузо» прототипом был Александр Селькирк. Утверждали даже, что Дефо задумал свой роман как некую утопию, как элемент пропаганды, восхваляющей религиозные свободы и экономические возможности английских колоний в Новом Свете. Разнородный состав «Робинзона Крузо» высвечивает сомнительность — пожалуй, даже абсурдность — упрощенных рассуждений о «становлении романа» и провозглашения книги Дефо первой особью вида. «Дон Кихот», что ни говори, увидел свет на сто с лишним лет раньше, и это несомненно роман. И почему бы не называть романами (novels) и рыцарские романы (romances), которые в xvii веке по-прежнему широко издавались и читались? Большинство европейских языков не делает между ними различий. Да, ранние английские романисты зачастую особо подчеркивали, что тот или иной их труд не просто рыцарский или приключенческий роман, а нечто большее; но об этом же, если на то пошло, заявляли и многие авторы romances. Так или иначе, к началу xix века, когда Вальтер Скотт и другие включили лучшие образцы жанра в авторитетные собрания, англичане уже не только ясно себе представляли, что понимается под словом «роман», но и во множестве экспортировали романы в переводах в другие страны. Определенно возник жанр, которого раньше не было. Ну так что же такое роман и почему он появился именно тогда?
Самым убедительным остается политико-экономический подход к вопросу, предложенный Ианом Уоттом пятьдесят лет назад. Местом рождения романа в его современной форме стала экономически господствующая и самая изощренная нация Европы, и Уотт дает прямолинейный, но мощный анализ этого совпадения. Уотт сплетает воедино прославление предприимчивой личности, широкое распространение грамотной буржуазии, которой очень хочется читать о себе, увеличение социальной мобильности (подталкивающее писателей к эксплуатации сопряженных с ней тревог), разделение труда (создающее общество, где много интересных различий), распад старого социального порядка с появлением множества изолированных одиночек и, разумеется, резкий прирост свободного времени для чтения у среднего класса, чья жизнь именно тогда становилась комфортабельной. Параллельно с этим английское общество стремительно делалось все более светским. Основы новой экономики заложила протестантская теология, сформировав новое понятие о социальном порядке как о совокупности независимых, полагающихся на себя индивидуумов, связанных с Богом напрямую; но на рубеже xvii и xviii веков на фоне процветания британской экономики становилось все менее очевидно, что индивидуум вообще нуждается в Боге. Да, многие страницы «Робинзона Крузо» — это подтвердит вам любой нетерпеливый юный читатель — посвящены духовному путешествию героя. Робинзон обретает на острове Бога, он раз за разом обращается к Нему в критические минуты, молится об избавлении от бед и исступленно благодарит Его за предоставление средств к этому избавлению. Однако, едва минует очередной кризис, герой возвращается к своему былому практицизму и забывает о Боге; к концу книги возникает стойкое чувство, что Робинзона спасло не столько Провидение, сколько его собственное трудолюбие и изобретательность. Читая о таком непостоянстве, о такой забывчивости Робинзона, видишь, как жанр духовной автобиографии перерастает в реалистическую художественную прозу.
Возможно, самый интересный аспект зарождения романа — эволюция ответов, которые английская культура давала на вопрос о правдоподобии. Считать ли необыкновенную историю истинной, потому что она необыкновенная, или же ее необычайность должна служить доказательством, что история вымышлена? Этот вопрос не дает нам покоя по сей день (вспомним скандал из-за «мемуаров» Джеймса Фрея[4]), и, безусловно, он висел в воздухе в 1719 году, когда Дефо опубликовал первый, и самый знаменитый, том «Робинзона Крузо». Подлинное имя автора там нигде не значилось. Книга называлась «Жизнь и странные удивительные приключения Робинзона Крузо <…> написанные им самим», и многие из первых читателей сочли историю невымышленной. Сомневающихся, однако, тоже хватало, и, выпуская в следующем году третий, и последний, том, Дефо счел своим долгом выступить в защиту правдивости написанного. Противопоставляя свою книгу рыцарским романам, где «сюжет вымышлен», он настаивал, что его повествование «хоть и аллегорично, но исторично», и утверждал, что «есть живой человек, и притом хорошо известный, чья жизнь и дела составляют верную основу этих томов». Зная то, что мы знаем, о подлинной жизни самого Дефо — подобно Крузо, он попадал в переплет, затевая рискованные деловые предприятия (например, разводя виверр ради секрета их желез, используемого в парфюмерии), и, дважды побывав в долговой тюрьме, был хорошо знаком с одиночеством — и принимая во внимание слова, сказанные им в том же томе: «И вообще, жизнь — единый целокупный акт одиночества, или же ей следует таковой быть», мы не без оснований можем заключить, что «хорошо известный» человек — сам Дефо. (Обращает на себя внимание созвучие фамилий: у обеих «о» на конце.) Роман, как мы понимаем его сегодня, это проекция человеческого опыта пишущего в сферу воображаемого, и решающий поворот к такому пониманию можно увидеть в пробном заявлении Дефо, что правда не обязательно должна быть строго исторична — что существует и «правда» романиста.
Литературовед Кэтрин Галлахер в эссе «Зарождение вымысла» рассматривает любопытный парадокс, имеющий отношение к этому виду правды: xviii век был не только временем, когда авторы вымышленных историй, начиная (приблизительно) с Дефо, перестали утверждать, что их истории не вымышлены; тогда же они начали прилагать усилия к тому, чтобы истории эти выглядели невымышленными, и правдоподобие вышло на первый план. Разгадка этого парадокса, по Галлахер, основана еще на одной особенности новой эпохи — на необходимости идти на риск. Когда твой бизнес зависит от вложения денег в акции, ты должен взвешивать вероятность разных исходов; когда браки перестали устраиваться родителями, приходится самим строить догадки о достоинствах потенциальной супруги или супруга. Роман в тех формах, какие он принял в xviii веке, предоставлял читателю поле для игры, которая могла завершиться по-всякому и в то же время была безопасной. Открыто заявляя о своей вымышленности, он выводил на сцену героев, достаточно типичных, чтобы ты мог примерить на себя их жизнь, и при этом достаточно своеобразных, чтобы все-таки не быть тобой. Великим литературным изобретением xviii столетия был, таким образом, не только жанр, но еще и отношение к этому жанру. Наше внутреннее состояние, когда мы сегодня берем в руки роман, — наше знание, что это плод воображения, и наш добровольный временный отказ от своего неверия в подлинность изображаемого — во многом определяет суть романа.
Новейшие исследования подорвали старое представление, будто в центре всех культур, в том числе устных, лежит эпос. Вымысел, будь то сказка или басня, похоже, предназначался главным образом детям. В эпохи, предшествовавшие Новому времени, истории читались ради получения новых сведений, в назидательных целях или чтобы пощекотать нервы; более серьезные литературные жанры — поэзия и драматургия — требовали определенного технического мастерства. Сочинение романа, однако, было доступно всякому, у кого имелись перо и бумага, и удовольствие, которое роман доставлял, было характерно именно для новой эпохи. Погружение в вымышленные истории исключительно ради удовольствия стало занятием, которому теперь свободно (хотя порой и не без чувства вины) могли предаваться и взрослые. Этот исторический сдвиг в сторону чтения для собственного удовольствия был настолько глубок, что мы сейчас толком его и не видим. После того как роман пророс в сферы кино, телевидения и новейших видеоигр, где вымышленность, как правило, афишируется, где персонажи типичны и в то же время своеобразны, вряд ли преувеличением будет сказать, что нашу культуру от всех прежних отличает ее насыщенность развлечениями. Роман, будучи сцепленной парой — предмет и отношение к предмету, — столь основательно наше отношение преобразовал, что предмет как таковой рискует оказаться более не нужным.
На другом острове того же архипелага, что и Мас-Афуэра, — первоначально он назывался Мас-а-Тьерра (Ближний к материку), а теперь это остров Робинзон-Крузо — я видел, какой ущерб причинили местной флоре три материковых вида растений (маки?, уньи и ежевика), сплошь покрывшие целые холмы и заполонившие ложбины. Особенно зловредной выглядела ежевика, которая губит даже высокие деревья исконных видов, а размножается отчасти вегетативно — отростками, похожими на стекловолоконные кабели, утыканные колючками. Два местных вида растений уже погибли, и, если не будут приняты масштабные меры, многие другие постигнет та же участь. Бродя по острову Робинзон-Крузо, выискивая на периферии ежевичных зарослей нежные эндемичные папоротники, я начал думать о романе как об организме, который на острове Англия мутировал в вирулентного агрессора, а затем, распространяясь по странам, подчинил себе всю планету.
Генри Филдинг в романе «Джозеф Эндрюс» отождествляет своих персонажей с «видами»: они и не индивидуальны, и не универсальны, а представляют собой нечто среднее. Однако в преобразованной романом культурной среде человеческие виды уступили место универсальной толпе индивидуумов, чья самая яркая характеристика — то, что они одинаково развлекаются. Именно этот монокультурный призрак увидел внутренним взором Дэвид Уоллес, именно ему он дал бой своим эпическим романом «Бесконечная шутка». И средства сопротивления, которые он в этом романе использовал: комментарии, отступления, нелинейность, гиперссылки, — предвосхитили выход на сцену еще более вирулентного захватчика, еще радикальней насаждающего индивидуализм, чем вытесняемые им сегодня роман и его потомство. Да, ежевика (blackberry) на острове Робинзон-Крузо напомнила мне всепобеждающий роман, но в не меньшей степени она похожа на агрессивно-инвазивный интернет, переносимый смартфонами BlackBerry, который позволяет человеку проецировать свое «я» уже не на повествование, а на весь мир. Вместо новостей как таковых — мои новости. Вместо одного футбольного матча — фрагменты пятнадцати разных матчей, порождающие статистику моей персональной воображаемой лиги. Вместо «Крестного отца» — «Что отчебучил мой кот». Индивидуум вышел из-под контроля, «Рядовой человек» сделался Чарли Шином.[5] В «Робинзоне Крузо» личность стала островом; теперь, похоже, остров становится целым миром.
Я проснулся ночью из-за того, что борта палатки бились о спальный мешок: поднялся сильный ветер. Я вставил в уши затычки, но удары все равно были слышны, потом они сделались тяжелыми, громкими. Когда наконец стало светать, я увидел, что с палаткой непорядок: полог провис, на нем болталась секция одного из шестов. Ветер разогнал облака подо мной, открыв вид на океан, до которого было поразительно близко; по свинцу его вод растекалась красная заря. Мобилизовавшись, как я умею перед поисками редкой птицы, я наскоро позавтракал, положил в рюкзак рацию, спутниковый телефон и запас продовольствия на два дня, а напоследок, потому что ветер был очень силен, опустил каркас палатки и придавил углы большими камнями, чтобы ее не сдуло в мое отсутствие. Время поджимало — в утренние часы на Мас-Афуэре погода обычно более ясная, чем днем, — но, прежде чем устремиться в гору, я заставил себя остановиться перед рефухио и отметить на GPS-навигаторе его координаты.
Островная райадито — более крупная, более тусклая по оперению родственница шипохвостой райадито, удивительной маленькой птички, которую я перед поездкой на острова видел кое-где в лесах материковой части Чили. Как такие крохотные существа смогли перелететь за пятьсот миль от берега в достаточном количестве для воспроизводства (и последующей эволюции), мы никогда не узнаем. Вид, живущий на Мас-Афуэре, нуждается в первозданном папоротниковом лесе, и его численность, изначально небольшая, похоже, уменьшается, — видимо, потому что на гнезда, которые находятся на земле, совершают набеги расплодившиеся крысы и кошки. (Чтобы избавить Мас-Афуэру от грызунов, пришлось бы поймать и приютить всех канюков острова, а потом с вертолетов разбросать по гористой территории отравленную приманку — на все это понадобилось бы примерно пять миллионов долларов.) Мне говорили, что увидеть райадито в ее среде обитания не так уж трудно, главное — добраться до этой среды.
Самая высокогорная часть острова по-прежнему куталась в облака, но я надеялся, что ветер вскоре их разгонит. Насколько я мог судить по своей карте, мне предстояло подняться примерно на три тысячи шестьсот футов, чтобы обогнуть два глубоких ущелья, преграждавших путь на юг, к Лос-Иносентес. Меня подбадривало то, что итоговый перепад высоты за весь переход должен был равняться нулю, но, почти сразу же после того как я отошел от рефухио, снова набежали облака. Видимость упала до нескольких сотен футов, и я стал каждые десять минут останавливаться, чтобы делать электронные пометы о своем местнахождении: точно Гензель в сказке, бросающий в лесу хлебные крошки. Некоторое время я держался тропы, обозначенной мулиным пометом, но вскоре заподозрил, что мог с нее и сбиться — так каменисто было теперь под ногами и так все истоптано козами.
На высоте три тысячи шестьсот я повернул на юг и начал было продираться через плотные заросли папоротника, с которого капало вовсю, но путь мне преградило ущелье, хотя ему полагалось сейчас быть ниже меня. Я развернул карту, но, с тех пор как я в прошлый раз ее изучал, тусклые разводы, предоставленные Google Earth, более четкими не стали. Я попробовал пойти вбок, вдоль края ущелья, но под папоротником скрывались скользкие камни и глубокие ямы, и спуск, насколько я мог разглядеть в тумане, делался все круче, поэтому я повернул назад и с трудом, ориентируясь по GPS, выбрался обратно к гребню горы. За час пути я вымок до нитки и отдалился от исходной точки всего на какую-нибудь тысячу футов.
Разглядывая карту, которая все сильней намокала, я вспомнил незнакомое слово, произнесенное Данило: кордонес. Должно быть, это означает гребни! Мне надо идти по гребням! Я опять двинулся вверх, останавливаясь лишь для того, чтобы бросать электронные крошки, и наконец подошел к радиоантенне, питающейся от солнечной батареи, — видимо, тут была локальная вершина. Ветер, ставший крепче, гнал облака над тыльной частью острова, которая, я знал, состоит из утесов, отвесно вздымающихся на три тысячи футов над колонией котиков. Утесов я не видел, но от самой мысли, что они близко, у меня закружилась голова. Я очень боюсь крутизны.
К счастью, cord?n, идущий от антенны на юг, был почти горизонтален и двигаться по нему было нетрудно, несмотря на сильный ветер и почти нулевую видимость. За полчаса я проделал немалый путь, радуясь, что скудость информации не помешала мне найти верную дорогу к Лос-Иносентес. Потом, однако, гребень начал ветвиться, ставя меня перед выбором, как лучше идти — выше или ниже. Карта недвусмысленно говорила, что я должен оказаться на высоте три тысячи двести, а не три тысячи восемьсот. Увы, нижние гребни, по которым я пытался спускаться, обрывались головокружительными кручами. Я вернулся к верхнему гребню, обладавшему тем преимуществом, что он вел прямо на юг, в сторону Лос-Иносентес, — и вздохнул с облегчением, когда он наконец пошел вниз.
Погода уже испортилась не на шутку: туман перешел в дождь, не просто косой, а горизонтальный, скорость ветра при порывах превышала сорок миль в час. Гребень, по которому я кое-как спускался, начал пугающе сужаться, и в одном месте дорогу мне преградила небольшая остроконечная скала. За ней, насколько я мог разглядеть, гребень все еще шел вниз, хоть и очень круто. Но как обойти скалу? Если я начну пробираться с подветренной стороны, есть опасность, что меня подхватит и сбросит вниз порыв ветра. С наветренной стороны, судя по всему, отвесная пропасть глубиной три тысячи футов, но там по крайней мере ветер будет прижимать меня к скале, а не отрывать от нее.
В полных воды ботинках я осторожно двинулся в путь с наветренной стороны, дважды проверяя каждый камень, прежде чем ступить, и каждый выступ, прежде чем за него ухватиться. Пройдя чуть вперед, я смог увидеть, чт? меня ждет немного дальше; похоже было, что гребень за скалой ведет опять-таки к обрыву: и впереди, и справа от него, и слева — только темная пустота. Хотя желание повидать райадито не ослабевало и настроен я был очень решительно, в какой-то момент мне стало страшно сделать следующий шаг, и вдруг я увидел себя со стороны: стою, распластавшись по скользкой скале, под слепящим дождем и яростным ветром, и нет никакой уверенности, что двигаюсь в правильном направлении. В голове отчетливо прозвучало: «То, что ты делаешь, крайне опасно». И я подумал об умершем друге.
В умении писать о погоде и непогоде Дэвид не уступал ни одному из тех, кто когда-либо склонялся над листом бумаги, и своих собак он любил нежнее, чем кого бы то ни было и что бы то ни было на свете, но природа как таковая его не интересовала, и он был совершенно равнодушен к птицам. Однажды, когда мы ехали на машине поблизости от Стинсон-Бич в Калифорнии, я остановился, чтобы он смог поглядеть в зрительную трубу на длинноклювого кроншнепа — на птицу, чье великолепие, по-моему, самоочевидно и открывает некие истины. Посмотрев секунды две, Дэвид отвернулся с откровенно скучающим видом. «Да, — произнес он своим особым поверхностно-вежливым тоном, — милое существо». Последним летом его жизни мы сидели с ним в его патио, и, пока он курил, я следил за летающими вокруг колибри, не в силах оторвать от них глаз, и печалился, что он к ним безразличен, а когда, приняв большую дозу лекарств, он погрузился в дневной сон, я стал изучать птиц Эквадора, готовясь к предстоящей поездке, — и вот тогда я отчетливо увидел разницу между его неизбывной бедой и моими терпимыми внутренними неурядицами: у меня были птицы, источник радости, мне было куда уйти от себя, ему — нет.
Да, он был нездоров, и в определенном смысле история моей дружбы с ним заключалась просто-напросто в том, что я любил душевнобольного. Страдая депрессией, он в конце концов покончил с собой, причем нарочно сделал это так, чтобы причинить тем, кого больше всех любил, максимум боли, и мы, любившие его, остались с ощущением злости и чувством, что нас предали. Предали не только тем, что вложенная нами любовь не принесла должной отдачи, но и тем, что самоубийство, отняв его у нас, превратило человека в публичную легенду. Люди, которые никогда не читали его произведений, а то и вовсе о нем не слышали, прочли в «Уолл-стрит джорнал» его речь перед выпускниками Кеньон-колледжа и оплакали потерю великой и нежной души. Литературная организация, никогда не включавшая его книг даже в короткий список выдвинутых на национальную премию, теперь единодушно объявила его утраченным сокровищем нации. Разумеется, он был сокровищем нации, и, будучи писателем, он принадлежал своим читателям не меньше, чем мне. Но если тебе выпало знать, что подлинный характер Дэвида был более сложным и двойственным, чем виделось теперь его поклонникам, и если ты знал, что у него было больше качеств, способных внушить любовь к нему, чем у того воплощения доброты и моральной прозорливости, у того художника-святого, которого из него сделали, — что он мог быть и смешон, и глуп, и растерян, мог нуждаться в помощи, мог ожесточенно сражаться со своими демонами, мог быть по-детски откровенно лжив и непоследователен, — если ты все это знал, трудно было, так или иначе, не почувствовать себя уязвленным той его частью, что предпочла любви самых близких низкопоклонство чужаков.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Борис Руденко Остров, которого нет
Борис Руденко Остров, которого нет Иллюстрация Владимира БОНДАРЯПента-Водка вошел в кабачок, потоптался на высоком пороге, щурясь со света на дымный полумрак, а потом, разглядев меня, устремился к моему столу и уселся напротив, не спросив приглашения.— У тебя нет
Остров
Остров Неоконченная повестьГлава IНа Средиземном море, между островов, окружающих Грецию, давно уже известна мореходцам одна скала, уединенно возвышающаяся посреди моря.Эта скала замечательна мореплавателям особенно потому, что она служит для них спасительным
Сырный остров
Сырный остров Не моя вина, если со мною случаются такие диковины, которых ещё не случалось ни с кем.Это потому, что я люблю путешествовать и вечно ищу приключений, а вы сидите дома и ничего не видите, кроме четырёх стен своей комнаты.Однажды, например, я отправился в дальнее
Остров Яблок
Остров Яблок Один из рыцарей Круглого стола король Островов Пелинор после многих подвигов возвратился в Камелот. С ним прибыла ко двору короля Артура некая дама, одна из приближенных Владычицы Озера, и звали ее Нинева. Настолько прекрасной была она, что смогла влюбить в
ГЛАВА II. ОСТРОВ СВЯТЫХ
ГЛАВА II. ОСТРОВ СВЯТЫХ Быстрый разумом сэр Томас Мор путешествовал в области чистых противоречий, так как он видел, что большинство стран испорчено дурными обычаями и что княжества являются ничем иным, как большими царствами пиратов, создавших их путем насилия и
Остров Петербург
Остров Петербург Два года тому назад в Петербурге пробили волшебные часы, как в сказке про Золушку: карета превратилась в тыкву, кучер в крысу, Владимир Анатольевич в Валентину Ивановну, лопаты и мастерки выпали из рук строителей – и всё, что было недостроено и
Исчезающий остров
Исчезающий остров Когда Санкт-Петербургу вернули его имя, город Ленинград стал медленно и неотвратимо таять. Русские не умеют ценить и беречь своё прошлое, им ведь обязательно надо «до основанья, а затем…» Вот и Ленинград срывают «до основанья». А между тем в обыденной
Остров Буян
Остров Буян В поэтических произведениях А. С. Пушкина встречается до трехсот географических названий, почерпнутых из мифологии и реальной географии — от Англии до Китая и от Невы до Евфрата1. Одно из этих трехсот названий — остров Буян.С детских лет мы знаем: Ветер
Остров Буян
Остров Буян 1. Поспелов Е. М. Топонимия в поэзии А. С. Пушкина // Nomina appellativa et nomina propria. Cracow, 1978. С. 199.2. Вилинбахов В. Б. Топонимика и некоторые вопросы Древней Руси / Всесоюзная конференция по топонимике СССР. Л., 1965. С. 87.3. Краткая географическая энциклопедия. Т. 3.