Вл. Гаков. Кровоточащее перо
Вл. Гаков. Кровоточащее перо
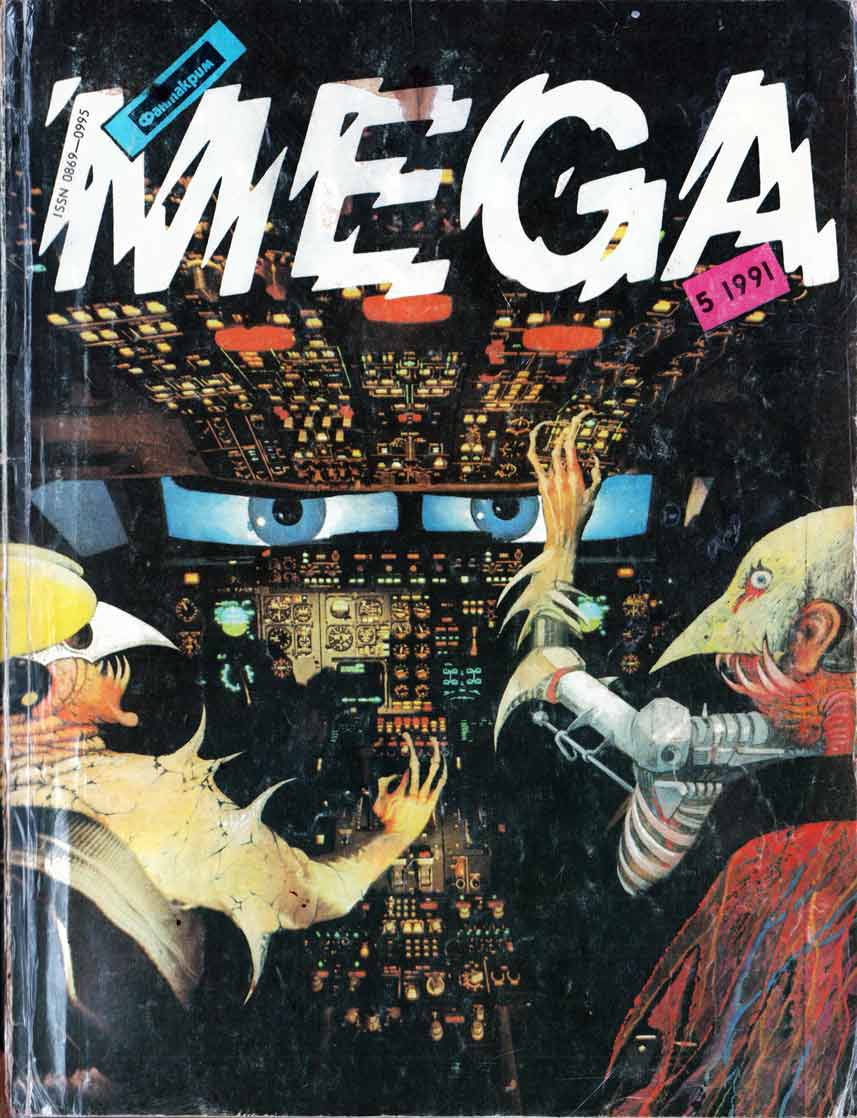
Владимир Одоевский
«4338-й год. Петербургские письма» (1840)

«Не один я в мире, и не безответен я перед моими собратьями — кто бы они ни были: друг, товарищ, любимая женщина, соплеменник, человек с другого полушария... Мысль, которую я посеял сегодня, взойдет завтра, через год, через тысячу лет...»
Так ответил Тургеневу, только что опубликовавшему статью «Довольно», его современник и соотечественник — князь Владимир Федорович Одоевский. Ответил резко, и статью-то свою назвал в пику Тургеневу — «Недовольно», потому что не мог согласиться со всепронизывающим пессимизмом знаменитого писателя, не видевшего никакой исторической перспективы для России.
В будущее своей родины князь Одоевский верил истово...
Историки отечественной фантастики до сих пор не могут разобраться в приоритетных вопросах. Кого наградить титулом первого русского фантаста — зависит от точки зрения: что считать фантастикой (а это спор на десятилетия!). Но вот вопрос о первом научном фантасте в России, кажется, ясен: «русским Жюль Верном» по праву называют Одоевского. Хотя и в этом сравнении проглядывает. странная «скромность», ибо свою научно-техническую утопию, незаконченный роман «4338-й год. Петербургские письма» Одоевский опубликовал за 22 года до выхода первого романа великого французского фантаста...
Почти столько же отделяет сочинение Одоевского — но с другого конца временной шкалы — от «Франкенштейна» Мэри Шелли. Научная фантастика только «раскачивалась», и ее этапные книги пока разделяли десятилетия.
Владимир Федорович Одоевский — это яркая страница отечественной культуры. Писатель, философ, критик, музыковед, страстный подвижник и практический организатор народного просвещения... Во всех областях деятельности он преуспел, и если называют его порой «ведущим в галерее т. н. второстепенных писателей», то оттого лишь, что не повезло ему с великими современниками, затмившими его собственное творчество.
Но только не в истории отечественной фантастики.
Относительно точной даты рождения будущего писателя биографы до сих пор спорят (хотя, казалось бы, что за древность — прошлый век!): 1803 либо 1804 год. Отец вел родословную аж от легендарного Рюрика, а мать была крепостной крестьянкой. В 1816 году Владимир Одоевский стал воспитанником Московского университетского благородного пансиона, который и закончил, особенно отличившись на почве русской словесности и философии.
В творчестве своем Одоевский вначале примкнул к романтикам, а поскольку ни одна из модных тогда философских систем его в полной мере не удовлетворяла, он просто... создал свою собственную! Организованное им в 1823 году, вместе с другом Дмитрием Веневитиновым «Общество любомудрия» привлекло в свои ряды многих выдающихся людей своего времени — Киреевского, Хомякова... О том, что это был за кружок и какие речи там велись, хорошо свидетельствует один-единственный факт.
Известно, что печальной памяти Фаддей Булгарин свою карьеру профессионального доносчика на русскую литературу начал не с кого-нибудь, а с любомудров: «Образ мыслей их, роль и суждения отзываются самым явным карбонаризмом... — «сигнализировал» он в III отделение, — собираются они у князя Владимира Одоевского, который слывет между ними философом».
Руководитель кружка, впрочем, образа своих мыслей не скрывал. Он был близок к Грибоедову, дружил с двоюродным братом Александром Одоевским, поэтом-декабристом. И хотя к заговору, несмотря на увещевания, не примкнул, а впоследствии вел жизнь и вовсе лояльную — чиновника и сенатора, все же от друзей, вышедших 14 декабря на Сенатскую площадь, не отрекся, что и в те давние времена было немало. Потом помогал петрашевцам, сотрудничал в демократической «Искре»...
В сфере искусства симпатии молодого Одоевского также определились достаточно рано. Дружил с Пушкиным и даже одно время сотрудничал в его «Современнике», ввел в литературный мир Петербурга Гоголя; споспешествовал публикации первой пьесы А. Н. Островского и романа Достоевского «Бедные люди». Один из ведущих знатоков музыки, Одоевский поддержал Глинку и начинавшего тогда юного Чайковского. Почти четыре десятилетия, как магнит, притягивал с себе таланты — и всем старался помочь, постоянно что-то «выбивал», хлопотал, оказывал содействие самым разнообразным «прожектам», которые мыслил способствующими делу процветания отечественной культуры.
После 14 декабря наступил неизбежный кризис. Одоевский распускает Общество любомудров — и так на молодых философов плотоядно косились ищейки из Департамента полиции — и сжигает его архив. В жизни его наступают решительные перемены: оставаясь «прогрессистом», он окончательно отказывается от революционного насилия, выбрав путь просвещения. Поменяв либеральную Москву на официозный Петербург, писатель и философ поступает на государственную службу, женится и всецело отдается общественной деятельности. «В одной руке шпага, под другой — соха, за плечами портфель с гербовою бумагою, под мышкой книга — вот вам русский писатель», — так охарактеризовал Одоевского его первый биограф П. И. Сакулин.
Меткая характеристика. Действительно, мало кто из российских литераторов мыслил себя призванным только «чистым искусством». К Слову относились с библейской почтительностью, полагая, что оно — основа дела.
Не расставался все это время со словом и Одоевский. Хотя Белинский справедливо заметил: «Князь Одоевский принадлежит к числу наиболее уважаемых из современных русских писателей», — но тут же добавил: «И между тем ничего не может быть неопределеннее известности, которою он пользуется. Скажем более: имя его гораздо известнее, нежели его сочинения».
Тоже правда... Нет, конечно, читателя благодарного Одоевский-писатель нашел; склонный к увлечению мистической философией, ученик Шеллинга и Сен-Мартена, он и прославился более всего своими «страшными» фантастическими произведениями — с мертвецами, духами, модными тогда сомнамбулическими «перевоплощениями» и тому подобной чертовщиной (а также произведениями для детей, например, знаменитым «Городком в табакерке»). Читающей публике это во все времена нравилось... И тем не менее литературная слава Одоевского заметно уступала общественному признанию его как культуртрегера.
Тем досаднее забвение, выпавшее на долю многих его замечательных фантастических произведений.
Взять, к примеру, новеллу «Импровизатор», вошедшую в лучшее из того, что написал Одоевский, — в цикл «Русские ночи». Герой ее наделен даром «все знать, все видеть, все понимать». Ему в руки попадает рукопись, где «были расчислены все силы природы», «все высокое и трогательное было подведено под арифметическую прогрессию; непосредственное разложено в Ньютонов бином; поэтический полет определен циклоидой; слово, рождающееся вместе с мыслию, обращено в логарифмы; невольный порыв души приведен в уравнение». Разумеется, после этого жизнь героя превращается в ад — и он заканчивает ее шутом у помещика...
Другой пример поинтереснее. Он еще и утопию свою не успел опубликовать, как, словно шутя, ненароком «изобрел» в российской словесности... антиутопию! Да и как иначе прикажете называть рассказ-притчу «Город без имени», повествующий о расцвете, упадке и гибели страны Бентамии, в которой осуществились принципы основателя философии утилитаризма Иеремии Бентама? Впрочем, развал общества, где единственным мерилом служит польза, легко было предугадать. Польза ведь для каждого — своя...
И все же главным вкладом Одоевского в отечественную фантастику остался незаконченный утопический роман (видимо, первая часть грандиозной, но так и не написанной трилогии). Фрагменты его впервые опубликованы в петербургском альманахе «Утренняя заря» за 1840 год.
... Позже аналогичные утопии будут выдавать на гора сотни авторов, от Уэллса до стаи канувших в безвестность поденщиков. Только Одоевский первым и весьма проницательно высмотрел еще одну возможность построения Утопии: не «лунной» или заморской, а отнесенной в будущее. В будущее, преобразованное научно-техническим прогрессом.
То, что Одоевский, при всем своем увлечении мистикой, в душе технократ, могли бы подтвердить многие его соученики по пансиону. Недаром же его прозвали Фаустом! А при выпуске он, награжденный «большой медалью и правом на чин Х-го класса», по традиции произнес речь, выбрав темой — науку: «Науки полезны, необходимы, спасительны для каждого гражданского общества... Они столь же беспредельны, как самая природа; они — ее искусственное начертание и объяснение тайных средств ее; их пределы — пределы Вселенной».
Литературный прием, примененный Одоевским в его утопии, не нов. Автор-рассказчик во сне переносится на две с половиной тысячи лет в будущее, где «переселяется» в душу китайского студента Ипполита Цунгиева, путешествующего по России 44-го века. Письма «провинциала» другу полны совершенно неумеренного восторга — побывать в центре мировой культуры! — автор же таким образом резервирует для себя взгляд «со стороны», иногда посмеиваясь над своим простодушным героем...
Что касается технических достижений, то восторгаться есть чем. Разнообразные аэростаты и гальваностаты, управляемые «особыми профессорами», гигантские туннели с несущимися по ним электроходами (между прочим, слово — изобретение Одоевского!), прогнозирование и управление погодой, система теплохранилищ, использующих вулканический жар Камчатки, «магнетические телеграфы», пластмассы, синтетическая пища, телевидение... Словом, воистину преображенный лик Земли.
Когда он все это обдумывал, Жюлю Верну исполнилось 12 лет, и того же примерно возраста были родители Уэллса.
Между прочим, человечество устремилось и в космос: «Нашли способ сообщения с Луною; она необитаема и служит только источником снабжения Земли различными житейскими потребностями, чем отвращается гибель, грозящая Земле по причине ее огромного народонаселения. Эти экспедиции чрезвычайно опасны, опаснее, чем прежние экспедиции вокруг света; на эти экспедиции единственно употребляется войско...»
Но предсказания отдельных технических чудес Одоевскому мало. Он дерзко заявляет, что вооруженное наукой и техникой человечество способно справиться и с явлениями космического порядка! Год 4338 выбран потому, что все описываемые события приходятся на канун грандиозной катастрофы: столкновения нашей планеты с кометой Виела (Бьела). А потомки как будто и не склонны впадать в панику, полностью уверовав в свою технику!
Позже, на склоне лет он напишет: «То, что называют судьбами мира, зависит в эту минуту от того рычажка, который изобретается каким-то голодным оборвышем на каком-то чердаке в Европе или в Америке и которым решается вопрос об управлении аэростатами».
Но это все — материальные стороны жизни в 44 веке. А как насчет духовной жизни, социального уклада, о чем вообще думают, как себя ведут (когда не заняты «наукой») наши далекие потомки?
Увы, как и все утописты, русский писатель с задачей показать ЧЕЛОВЕКА будущего — не справился. Никому она пока не по зубам — и «люди будущего» почти всех утопий выходят все-таки современниками авторов...
Вот и у Одоевского «социальная» и «духовная» жизнь россиян 44-го столетия может вызвать разве что улыбку.
Социализма в России будущего автор, конечно, не предвидел, но и предсказанный им общественный строй, весьма ощутимо отдающий «тоталитарной антиутопией», можно поставить писателю в нечаянную заслугу. При том, что многое, заставившее насторожиться современного читателя-соотечественника Одоевского, самому ему могло видиться пределом желанного.
Итак, Россией по-прежнему правит царь. Правда, теперь это царь-поэт, для которого творчество не «хобби», а непременный атрибут власти! Улыбнемся... Далее, хотя общество в целом благоденствует, имущественное и сословное неравенство также сохранено. А вот министерства претерпели разительные метаморфозы: есть министерство истории, министерство философии, премьер же носит титул и вовсе непривычный — «министра примирений»; в его задачу входит своевременно прекращать любые споры, включая семейные склоки. (Между прочим, готовность к компромиссу в этом обществе... оплачивается казной!)
В повседневной жизни люди непосредственны и раскованны, какой-либо внешний этикет отсутствует. Правда, это только на поверхности — суть бесед, как можно заключить из приведенных в письмах китайского студента диалогов, редко вырывается из круга «принятого в свете»...
Самое занятное в опубликованных фрагментах — это сцены «магнетических сеансов», дающих представление о том, как россияне будущего проводят свой досуг. Собравшись вместе, они сначала вводят себя в эйфорическое состояние, вдыхая особые «возбуждающие газы», после чего беспрерывно улыбаются друг другу, поверяют сердечные тайны, а то и затевают любовные игры...
Все это, честно говоря, очень напоминает «психоделические упражнения» с наркотиками нынешних хиппи. И у читателя, хоть на минуту представившего себе ход мысли интеллигента-аристократа середины прошлого века, вероятно, впервые закрадывается смутное подозрение. Так ли уж упоен собственными нарисованными картинами автор сей утопии? Да утопия ли это вообще?!
После как бы ненароком оброненной фразы о том, что подобные коллективные игрища не только общеприняты, но и негласно предписаны каждому гражданину будущей России (на уклоняющихся смотрят как на подозрительных «асоциальных элементов»), подозрение переходит в уверенность.
Это, конечно, самая настоящая утопия. Как понимаем мы ее сегодня, во всеоружьи горького опыта: казарменный «рай» поголовно счастливых...
Мне все-таки кажется: его не поняли. Ни современники (ну, тем простительно), ни более поздние критики. Недаром Одоевский столь старательно подчеркивает этот неумеренный восторг рассказчика-провинциала.
Двойственное отношение к собственной утопии (а теперь, перечитав опубликованные фрагменты, я все более убеждаюсь: таким оно в сущности и было) — результат также двойственной философии, которую исповедовал автор.
Он считал, что его многие не понимают: славянофилы принимают за «западника», а петербургские интеллектуалы видят в нем отъявленного старовера-мистика. «Это меня радует, — писал он А. С. Хомякову, — ибо служит признаком, что я именно на том узком пути, который один ведет к истине». И в утопии своей он искренне воодушевлен теми успехами науки и техники, которые так преобразили жизнь его далеких потомков — ив то же время грустит по прошлому, которое они, кажется, основательно забыли.
«Пародией на культуру без прошлого» называют роман Одоевского самые радикальные сторонники видеть в этой книге первую антиутопию русской литературы. Что ж, может быть, они и правы — что он еще задумывал, о чем собирался рассказать дальше, теперь остается только гадать...
Во всяком случае это несомненно первая в отечественной фантастической литературе утопия, которая заставляет задуматься о самой этой одновременно притягательной и пугающей деятельности: конструировании «идеального будущего».
И во что заставляет поверить, так это в искренность особого патриотизма Владимира Одоевского. Особого, потому что автор не считает нужным скрывать все, что вызывает у него раздражение и активное неприятие. Отвлекаясь от романа — разве не фантастически-современно звучит такая вот запись в дневнике писателя (речь шла о правительственном циркуляре 1855 года, в котором признавалось крайне критическое положение страны):
«Ложь, многословие и взятки — вот те три пиявицы, которые сосут Россию; взятки и воровство покрываются ложью, а ложь — многословием. Этот циркуляр есть истинный подвиг, больше полезный для государя и отечества, нежели взятие Карса... Можно отличить человека честного от негодяя по тому только, pro он или contra циркуляра. Правда, последние нападают на него лишь стороною, говоря, например: что скажут иностранцы?
Как будто иностранцы не знают всю суть лучше нашего! Напротив, признать опасность своего положения есть дело ума и силы. Кто знает свою рану, тот ее залечит, если можно, а белилами ее не замажешь».
Нет, все-таки до чего прозорливые люди пишут фантастику! И как очевидно им уготовано непонимание у власть предержащих...
Владимир Федорович Одоевский был из числа таких. Разве могло бы из-под его пера выйти простое восхваление, ура-патриотическая апология существующих в России порядков?
Ему принадлежит афоризм: «Перо пишет плохо, если в чернильницу не прибавить хотя бы несколько капель собственной крови». Кровоточит и его утопия, его гимн будущей России.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Вл. Гаков Невообразимый Тенн
Вл. Гаков Невообразимый Тенн Уильям Тенн не дожил всего несколько месяцев до своего 90-летнего юбилея, который мир научной фантастики отмечает в этом месяце. За свою долгую жизнь в литературе американский писатель так и не стал живым классиком — может быть, потому что
Вл. Гаков Первый контакт
Вл. Гаков Первый контакт Так называлась новелла Мюррея Лейнстера, чье 115-летие со дня рождения фантастический мир отмечает в этом месяце. Рассказ зачислен в классику жанра. Хотя «вехой» произведение стало не в Америке, а у нас. Потому что именно с него, тогда еще даже не
Вл. Гаков. Брюс Стерлинг, зав. агитпропом
Вл. Гаков. Брюс Стерлинг, зав. агитпропом У меня созрело убеждение, что любое движение в итоге губят даже не поставленные им цели и провозглашенные лозунги, но — идеологи. В политике ли, в литературе — не суть важно...Как только у истоков движения, претендующего на
Вл. Гаков. Рецензия на Толкина.
Вл. Гаков. Рецензия на Толкина. Джон Роналд Руэл Толкин.— Хоббит, или туда и обратно. Сказочная повесть. Перевод с английского Н. Рахмановой. Л., «Детская литература», 1976.Кто такие хоббиты? Маленький милый народец; ростом хоббиты меньше карликов, они сообразительны и шустры,
Владимир Гаков. Первый контакт
Владимир Гаков. Первый контакт Это действительно первый серьезный контакт с писателем, которого в нашей стране знают, кажется, давным-давно! По сути — первый авторский сборник на русском языке Мюррея Лейнстера.Вообще, следовало бы с самого начала именовать его так, как
Владимир Гаков. С задания вернется...
Владимир Гаков. С задания вернется... Признаюсь — не жалую я так называемую «военную» научную фантастику. Как, впрочем, и военные приключения вообще.Тут только нужно различать: есть военная проза (которая, если это настоящая литература, просто по определению не может не
Вл. Гаков. На гребне «волны».
Вл. Гаков. На гребне «волны». Английская фантастика 60-70-х годовДостаточно простого перечисления имен, чтобы убедиться, сколь сильна была в английской литературе «фантастическая» традиция. Социальные утописты Томас Мор и Фрэнсис Бэкон, автор одного из первых произведений
Вл. Гаков. Два «штриха» к знакомому портрету.
Вл. Гаков. Два «штриха» к знакомому портрету. «Перед вами книга, написанная мальчишкой, который вырос в маленьком иллинойском городке и увидел, как наступил космический Век, как сбылись его мечты и надежды.Я посвящаю эти рассказы мальчишкам — тем, кого волнует Прошлое, кто
«Скрипи, мое перо…»: реминисценции из стихотворений Пушкина и Ходасевича в поэзии Бродского
«Скрипи, мое перо…»: реминисценции из стихотворений Пушкина и Ходасевича в поэзии Бродского Говоря о собственной поэзии и судьбе, Бродский часто прибегает к реминисценциям из Пушкина, которые вместе с цитатами из стихотворений Владислава Ходасевича образуют единый