Обнаженное сердце Шарль Бодлер
Вспоре о природе и смысле – о благотворности или, наоборот, ущербности – бодлеровских «Цветов Зла», завязавшемся еще в канун суда над этой книгой по обвинению в «безнравственности» и кое-где не иссякшем до сих пор, сегодня все же бесспорна отправная истина: для Франции и ее словесности то было больше чем очередное открытие, тут не праздны, не коробят и слова сильнее, у нас в России произносимые применительно к Толстому или Достоевскому, – человековедческое откровение. За вычетом разве что Вийона, ничего равного по пронзительной оголенности признаний, будь они внушены обожанием, искусами порока, сладостной грезой, исступленным бунтарством, пресыщением, мститель ной ожесточенностью, жаждой духовного просветления или свинцовой хандрой, ничего подобного по твердой убежденности, что все это и еще очень многое способно уживаться в одной душе, лирика французов до Бодлера не знала, да и после него достигала нечасто.
Столь сложное, сгущенно-трагическое виденье человека и жизни конечно же не было и не могло быть случайным. Оно носилось в воздухе безвременья середины XIX в. во Франции и было внушено Бодлеру историей, очевидцем которой ему довелось стать, выстрадано собственной его судьбой, добыто бесстрашной работой мысли.
Злополучие преследовало Шарля Бодлера (1821–1867), судя по его переписке и дневниковым заметкам, с отрочества и до гробовой доски, порождало щемящее подозрение о своей «обреченности на вечное одиночество», а с годами и выношенное убеждение: «как бы я себя ни проявил, я останусь чудовищем» в глазах окружающих. Жизнь его и в самом деле выглядит вереницей тех повседневных поражений, какими обычно расплачиваются за угловатый нрав, упрямое нежелание поступать и думать как все.
В детстве потеряв отца – просвещенного вольтерьянца из тех, что в пореволюционной Франции хранили верность вкусам XVIII в., Бодлер до конца дней мучительно пере живал разлад с обожаемой им матерью, вышедшей замуж вторично за преуспевающего солдафона. Отчим норовил отвадить пасынка от «баловства пером» и небезуспешно склонял свою супругу прибегать порой к довольно крутым мерам. В 1841 г. строптивый юноша был отправлен в кругосветное плавание в надежде на то, что оно излечит его от податливости на парижские соблазны. Однако с полпути он само вольно вернулся назад. По достижении совершеннолетия Бодлер настоял на своем: добропорядочному благонравию он предпочтет богемное житье, сперва вызывающе расточи тельное – пока семья, опасаясь за быстро таявшее отцовское наследство, не добилась учреждения над ним оскорбительной опеки, – потом на грани нищеты.
Несмотря на рассеянную жизнь денди, беспорядочный быт, осаждавшие его долги, Бодлер даже тогда, когда приходилось браться за литературную поденщину, работал мед ленно, без поблажек себе, и то, что у других сводилось к ремеслу ради заработка, для него было творчеством, требовало полнейшей самоотдачи, поскольку, как он неколебимо верил, «в слове, в Глаголе есть нечто священное». Неотъемлемой частью писательского становления самого Бодлера были поэтому и переводы из Эдгара По, и очерки о живописи, литературе, музыке. В них он, горячий поклон ник Делакруа, Флобера, Вагнера, шел вразрез как с засильем лобового нравоучительства всех толков в тогдашней культуре, так и с поветрием холодной безличностности, самодовлеющего мастерства, ухода в прошлое. Считая наитие под слеповатым поводырем пишущих, Бодлер придавал размышлению по поводу создаваемого другими далеко не побочную значимость и намеревался собрать свои разрозненные критические выступления вместе. Сделать это удалось, увы, лишь его душеприказчикам в двух книгах: «Эстетические достопримечательности» (1868) и «Романтическое искусство» (1869)[25] – памятниках французской эстетической мыс ли XIX века, по праву помещаемых ныне в один преемственный ряд с искусствоведческой эссеистикой Дидро, Стендаля, Аполлинера.
Подобно многим своим сверстникам, Бодлер пережил революционный 1848?й год – а он был на баррикадах и в феврале, и в дни июньского восстания парижских рабочих – как краткое опьянение радужными, хотя и весьма у него сбивчивыми, надеждами перестроить всю жизнь снизу доверху. Тем тягостнее было три года спустя, после декабря 1851?го, душевное похмелье Бодлера на самом дне безнадежности, которая сопровождалась отречением от всяких граждански-политических порывов. В отличие от Гюго, Бодлер полагал, что государственный переворот был не просто делом кучки наглых и ловких насильников: «Глупцы те, кто думает, будто подобные вещи могут совершаться без позволения народа…». И потому ожесточенная неприязнь к мещанской Франции на калена у него до крайнего предела: «Современная шваль внушает мне ужас. Ваши либералы – ужас. Добродетели – ужас. Порок – ужас. Приглаженный стиль – ужас. Прогресс – ужас».
Скептический оползень вчерашних верований, так или иначе затронувший всех мыслящих наблюдателей тогдашних исторических превратностей – от Флобера и Гейне до Ренана и Герцена, в случае с Бодлером зашел так далеко, что рас шатал и подломил две философские опоры, на каких со времен Возрождения и просветительства покоилось в странах Запада всякое светское оптимистическое миросозерцание: доверие к изначально доброй природе человека и доверие к скрытой, но в конце концов как бы «разумной» и приязненной к нам целесообразности поступательного хода вещей на земле, который не сегодня так завтра все уладит к лучшему, даровав благоденствие. По Бодлеру – и здесь он как раз сродни Достоевскому «Записок из подполья» в его притяжениях-отталкиваниях с философией Канта, – оба эти сопряженные между собой допущения ума есть не что иное, как «выдумки нынешней философистики», не имеющие сколько-нибудь доказательных подтверждений. Напротив, для Бодлера растлевающий упадок окрест, когда духовность подмята корыстью, – опровержение просветительски-гегельянских учений о прогрессе не менее явное, чем колеблющая все руссоистские суждения о врожденной доброте людской жестокость первобытных нравов, облагороженных как раз над- или «сверхприродными» установлениями морали и культуры. Предрасположенность и воля к чистому, достойному, благому столь же изначальны у человека, как и податливость на вожделения порочные, злые, дремуче-темные. В себе самом эту расколотость, неустранимую двойственность Бодлер обнаруживал на каждом шагу и, не отличаясь в повседневной жизни крепостью христианской веры, искал, однако, поддержки своей философии личности в библейской легенде о «первородном грехе». «Есть в каждом человеке, – записывал он в дневнике “Мое обнаженное сердце[26], – одновременно два устремления, первое обращено к Богу, второе – к Сатане. Зов Бога, или духовность, – это жажда внутренне возвыситься, зов Сатаны, или животность, – это радость от собственного падения».
На такой мировоззренческой площадке и возводится Бодлером здание «сверхприродной», по его словам, эстетики с надстраивающей ее, в свою очередь, «магической» поэтикой. Оно предназначено послужить оплотом для творчества, которое бы оправдало эту приставку «сверх» двояко. Прежде всего исторически – тем, что оно по необходимости питается токами цивилизации, приближающейся к «старости», с возрастом утрачивающей и крепкое здоровье, и простосердечную наивность, зато весьма искушенной, изощрившейся, утонченно изысканной. Хотят того или нет, «предзакатность» ее накладывает свой отпечаток на вкусы: внушает повышенную чуткость к красоте увядания, одухотворенно-скорбной, сочетающей в себе «пылкость и печаль». Отсюда же предпочтение, оказываемое мастерски сделанному перед естественно бесхитростным, ведь последнее в силу своей незащищенности просто-напросто впитывает в пору «упадка» его болезнетворные испарения и тем обрекает себя на упадочничество, тогда как умелая их обработка с целью превозмочь ущербность подручного материала есть «героизм времен упадка».
Героичность такого преодоления обстоятельств заострен но выявляет, по мнению Бодлера, тот закон – и здесь вторая, уже не исторически переменная, а общетеоретическая составляющая принципа «сверхприродности», – что действительная жизнь всегда входит в искусство отнюдь не как нечто безыскусное, а совсем наоборот: искусно претворенной. Бодлер склоняется к пересмотру веками непререкаемой аристотелевской установки на «подражание природе» как важнейшую задачу живописца, музыканта, писателя. Для него «королева способностей» – воображение. В природе оно добывает, как в «словаре» или «складе образов и знаков», только руду, каковая подлежит обогащению и переплавке, согласно замыслу как раз внеприродному, выпестованному духом – культурой и цивилизацией. Вовсе не тождественное прихотливо непроизвольной фантазии, бодлеровское воображение есть дар порождающий, волевой и действенный; всякий раз он как бы повторяет божественное сотворение упорядоченного космоса из первичного зыбкого хаоса: в рос сыпи разрозненных наблюдений сперва угадывается какая-то одна из бесчисленных возможностей их упорядочения, а за тем воплощается в непреложном и вместе с тем всегда самобытном единстве «заново созданного мира».
Обязанная своим устройством всецело «правилам, истоки коих кроются в душе творца», эта «сверхприродно» упорядоченная, очеловеченная вселенная вымысла по самой сути своей неповторима – именно необычностью, непохожестью ни на что другое вызывает она то удивление, без какого не пробуждается готовность к восприятию прекрасного. Пред восхищая позднейшие учения о приеме «остр?ннивания», Бодлер считал непременным залогом красоты и в жизни, и в искусстве наличие той или иной доли «странного», от «стран ности непредумышленной, бессознательной» до гротеска – этого «видимого парадокса», когда сама «правда облачена в странные одежды». Другим таким залогом, согласно Бодлеру, является осмысленное, вскормленное «логикой и анализом» владение тончайшими секретами и навыками своего дела – прозрачный для себя «метод», философски вырабатываемый каждым применительно к собственным задаткам и пристрастиям. Прозорливо-мощное воображение, остр?ннивающий сдвиг, виртуозное исполнение под опекой ясного интеллекта – все основные понятийные слагаемые «сверх природного», по Бодлеру, предназначены повысить насыщенность духовно-личностного присутствия создателя в самой ткани им создаваемого.
Самое уязвимое в этих противоаристотелевских выкладках – их пригодность к тому, чтобы освятить и безудержный произвол. Сползания к нему сам Бодлер, однако, избе жал, как сумели в дальнейшем избежать этой опасности те из наследников его неприязни к «мимезису» – среди них Аполлинер, Элюар, Реверди, – кому врожденное чувство меры обычно не изменяло. У Бодлера оно и философски упрочено постольку, поскольку он направляет сверхприродную деятельность на постижение бытия, в том числе и самой природы. Правда, предмет этого особого познания выдает домогательства метафизические – он не в обозримых ликах сущего, а в скрытом от взоров подспудном родстве всех на свете вещей. Мироздание, согласно Бодлеру, являет собой «дивный храм» со своим законосообразным устроением, где все телесное и духовное, равно как и все краски, звуки, запахи, как гласит программный бодлеровский сонет «Соответствия», в конце концов суть лишь разные иероглифические наречия одного материнского праязыка, которым возвещает о себе это корневое единство. И следовательно, все они перекликаются в рамках изначального «вселенского подобия». Коль скоро основополагающее бытийное устройство толкуется Бодлером, вслед за упоминаемыми им Сведенборгом, Лафатером, Фурье, в мистико-спиритуалистическом ключе как одухотворяющая все материально-природное живая первосущность (имея давнюю, восходящую к Платону мыслительную родословную, она сопоставима с гегелевским мировым духом), понятно, что прикоснуться к этой тайне дано именно «сверхприродному» воображению. Угадывая и облекая в слова глубинные «соответствия» между разделенными по видимости потоками слуховых, обонятельных, зри тельных ощущений, исходящих от сводного, где-то в самой глубинной своей основе единого жизненного многоязычия, поэт, по Бодлеру, проникает сам и вводит за собой всех желающих ему внимать в загадочную святая святых нерукотворного «собора».
Сущее, как следует в конце концов из бодлеровских философских размышлений, двупластно: за дробными явлениями кроется их глубинное корневое родство, за слоем существующего брезжит заповедный слой сущностного. И это онтологическое устройство мироздания соотносимо с двупластностью нашего духа: над слоем непосредственного созерцания здесь надстраивается слой ассоциативного воображения, которому, собственно, и приоткрывается доступ к сокровенной истине всеединства. В лирике самого Бодлера преимущественную разработку получила, впрочем, психологическая, антропоцентристская и в этом смысле «гуманистическая»[27] сторона дела: действительное дано обычно как воспринимаемое, а оно, в свою очередь, неотделимо от при поминаемого или пригрезившегося. Первая же, как договорит вскоре Рембо, – «ясновидческая», сторона бодлеровской философии «сверхприродного» творчества будет подхвачена и всерьез развита в следующем поколении символистами, а затем, уже в XX в. сделается, в тех или иных поворотах, отправной для взглядов многих лириков Франции на свои задачи.
Отсюда, из внятно продуманных на всех уровнях построений, и извлекались Бодлером наметки тех способов словесно-стиховой работы, которые он сам обозначал как «магические» – как «намекающе-окликающую ворожбу». Существо «магического колдования» лирика в том, чтобы закрепить на бумаге – и тем создать для всех других возможность испытать – «празднества мозга». Они наступают, когда мыс ленно преодолена расщепленность бытия на природу и личность, вещи и дух, внешнее и внутреннее – когда «объект и субъект, мир, окружающий художника, и сам художник совместились в одно». Но подобные состояния «благодати» – редкие переживания собственной непосредственной подключенности к родникам вселенской жизни – «несказ?нны» в том смысле, что они упорно ускользают от прямых описаний и рассудочных объяснений. Зато их можно окольно подсказать, внушить, навеять. Намекающее, «ворожащее», суггестивное письмо, которое бы чародействовало, пробуждая, подобно музыке или живописи, бесконечную взаимоперекличку непроизвольных отзывов в самых разных ответвлениях нашей чувствительности, и вводится Бодлером впервые столь широко в чересчур дискурсивную стихотворную куль туру Франции, издавна страдавшую от головной «логистики».
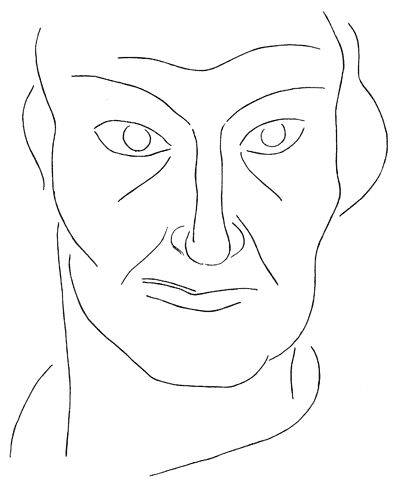
Шарль Бодлер. Рисунок Анри Матисса. 1932
Избранник «королевы способностей» и потому обладатель незаурядной миропостигающей проницательности, не только не притуплённой из-за отказа следовать аристотелевским природоподражательным заветам, а, наоборот, резко воз росшей до умения распознать где-то за вещами первоосновы мироздания и «ворожаще» намекнуть на их строй своим повинующимся разуму «Глаголом», – такова в конечном счете модель бодлеровского самоопределения.
«Цветы Зла» Бодлера вышли впервые в 1857 г. и были составлены из вещей, писавшихся и выборочно печатавших ся им на протяжении полутора десятка лет. Но это собрание было выстроено так, чтобы смотреться как единая книга[28] скитаний души мятущейся, страждущей посреди жизненной распутицы, где злое и больное (французское le mal сочетает оба эти значения) разлито повсюду, гнездится и внутри сердец.
Охранительное благомыслие бонапартистской Франции сразу же усмотрело посягательство на устои добродетели в беспощадно трагичной правде об этом двойном грехопадении – «предзакатного» века и самой личности. Последовало судебное разбирательство, как и в случае с «Госпожой Бовари» Флобера; шесть пьес из «Цветов Зла» были признаны «безнравственными», подлежали по приговору (официально отменен только в 1949 г.) изъятию из книги, и на нее впредь до этой «чистки» налагается запрет. Бодлер не смог включить их и в следующее, расширенное, кое в чем перестроенное издание «Цветов Зла» (1861). Он про должал работать над книгой и позже, готовя третье, снова дополненное ее издание, увидевшее свет посмертно, в 1868 г. Что же касается исключенных стихотворений, то они образовали часть книжечки, выпущенной в 1866 г. полуподпольно и озаглавленной с вызовом уязвленного – «Обломки».
«В эту жестокую книгу, – писал Бодлер о «Цветах Зла» за год до смерти одному из знакомых, как бы отмежевываясь задним числом от иных ее «парнасских вкраплений» (вроде «Гимна Красоте»), – я вложил все мое сердце, всю нежность, всю веру (вывернутую наизнанку), всю мою ненависть. Конечно, я стану утверждать обратное, клясться всеми богами, будто это книга чистого искусства, кривлянья, фокусничества; и я солгу, как ярмарочный зубодер».
Предпосылка действительно жестокой в своей бестре петной честности и крайне разнородной по своему составу бодлеровской исповедальности не просто в невиданно откровенном, «как на духу», обнажении всего, что у него на сердце, но и в другом взгляде на человеческую личность, чем у непосредственных предшественников Бодлера из поколения Гюго, чтимых им и одновременно оспариваемых.
Признания этих «сыновей века» бывали и доверительно искренними, и удрученными, однако источник дурного, повергающего в скорбь, порочного помещался ими неизменно где-то вовне – в неблагосклонных обстоятельствах, убожестве обстановки, во враждебной злокозненности судеб. Потомок «сыновей века», пошедший по стопам своих отцов куда дальше и потому первый из «сыновей конца века» во Франции, Бодлер с усугубленной ранимостью, каждой клеточкой души и тела испытывает гнет неладно устроенной жизни, где он сам, носитель редкого дара, обречен на окаянное отщепенство в семье («Благословение»), в пошлой толпе («Альбатрос»), в потоке истории («Маяки»). Облегчение он находит лишь в том, чтобы обратить в горделивую доблесть доставшийся ему роковой жребий, истолковать свое «проклятье» как крещение в избраннической купели, предписав себе неукоснительный долг свидетельствовать от лица «каинова отродья» – всех отверженных и обездоленных, всех
…кто не знает иного удела,
Как оплакивать то, что ушло навсегда,
И кого милосердной волчицей пригрела,
Чью сиротскую жизнь иссушила беда.
И душа моя с вами блуждает в тумане,
В рог трубит моя память, и плачет мой стих
О матросах, забытых в глухом океане,
О бездомных, о пленных – о многих других…
«Лебедь». Перевод В. Левика
И все-таки вертеровски-байронический разрыв Я и окружающего, ценностная разнозаряженность, с одной стороны, самосознания, раньше неколебимо уверенного в собственной духовной правоте-чистоте, а с другой – неблагополучного миропорядка у Бодлера дополняются их зеркальностью, тесной сообщаемостью, взаимопроникновением. В потаенных толщах души, дотоле обычно однородной и всегда равной самой себе, Бодлер обнаруживает неустранимую двуполюсность, совмещение вроде бы несовместимого, брожение непохожих друг на друга задатков и свойств, легко перерождающихся в свою противоположность. С первых же строк пролога к «Цветам Зла», бросая вызов расхожим самообольщениям и для этого намеренно делая крен в сторону саморазоблачения, он приглашает всякого, кто возьмет в руки его книгу, честно узнать себя в ее нелицеприятной исповеди:
Глупость, грех, беззаконный законный разбой
Растлевают нас, точат и душу и тело.
И, как нищие – вшей, мы всю жизнь, отупело,
Угрызения совести кормим собой.
Перевод В. Левика[29]
Дальше, прослеживая от раздела к разделу «Цветов Зла» («Сплин и идеал», «Парижские картины», «Вино», «Цветы Зла», «Мятеж», «Смерть») мытарства взыскующего «духовной зари» в разных кругах повседневного ада, складывающиеся в одно долгое странствие по жизни навстречу избавительнице-смерти, Бодлер постарается частично выправить первоначальный перекос. «Сатанинское» он посильно оттенит «ангельским», наваждения «сплина» – томлением по «идеалу», ущербное – окрыляющим, провалы в отчаяние и отвращение ко всему на свете, включая себя:
Я затерянный склеп, где во мраке и гнили
Черви гложут моих мертвецов дорогих,
Копошась точно совесть в потемках глухих, –
«Сплин». Перевод В. Левика
просветленно-порывистыми взлетами, пусть редкими и краткими:
Я в музыку порой иду, как в океан,
Пленительный, опасный –
Чтоб устремить ладью сквозь морок и туман
К звезде своей неясной.
«Музыка». Перевод А. Эфрон
Сколь бы противоположны ни были, однако, иные ипостаси Бодлера-лирика, колеблющегося между двумя крайностями: «ужасом жизни и восторгом жизни», – они всегда не просто взаимоотталкиваются, но и взаимопревращаются. Головокружительная бездонность человеческого сердца («Человек и море») и теснейшее соседство, сцепление, своего рода «оборотничество» в нем благодатного и опустошающе-греховного («Голос») – ключевые посылки бодлеровской самоаналитики, обеспечивающей «Цветам Зла», вопреки всем толкам о «клевете» на род людской, восходящим к прокурорскому обвинению книги в 1857 г., значение непреходящего лирического открытия.
Здесь, в самом подходе к личности как множественно-подвижной «протеистической» совокупности, коренятся и причины исключительного богатства, глубины, разноликости любовной лирики Бодлера. Между молитвенным благоговением:
Что скажешь ты, душа, одна в ночи безбрежной,
И ты, о сердце, ты, поникшее без сил,
Ей, самой милой, самой доброй, самой нежной,
Чей взор божественный тебя вдруг воскресил?
– Ей славу будем петь, живя и умирая,
И с гордостью во всем повиноваться ей.
Духовна плоть ее, в ней ароматы рая,
И взгляд ее струит свет неземных лучей, –
Перевод И. Кузнецовой
и каким-то чадным сладострастием («Вампир», «Отрава», «Одержимый») в «Цветах Зла» переливается бесконечное обилие оттенков, граней, неожиданных изгибов страсти. И каждое из ее дробных состояний, в свою очередь, редко сохраняет тождество самому себе, гораздо чаще это чувство-перевертыш, когда лицевая сторона и изнанка легко меняются местами («Мадонне»), порок и повергает в содрогание, и манит терпкими усладами («Л?та», «Окаянные женщины»), а заклинание любящего иной раз облечено в парадоксально жестокое назидание («Падаль»). Поэтому-то в смысловом развертывании и самом построении бодлеровских любовных признаний столь часты внезапные перепады («Вы, ангел радости, когда-нибудь страдали?.. Вы, ангел кротости, знакомы с тайной злостью?.. Вас, ангел свежести, томила лихорадка?.. Вы, ангел прелести, теряли счет морщи нам?..»), разбросанные тут и там связки взаимоотрицающих уподоблений («Ты – край обетованный, / Где горестных моих желаний караваны / К колодцам глаз твоих идут на водопой. / Но не прохлада в них – огонь, смола и сера»), ударные завершающие словесные стяжения-сшибки: «О величие грязи, блистанье гниенья».
Запутанная внутренняя правда чувства для Бодлера – любовного лирика вообще важнее моралистического долженствования, а тем паче портретных описательных задач. Облик той или иной женщины под его пером – это скорее повод для вызванного ею в данный миг собственного душевного настроя, так что и на девичью весну может быть перенесено отнюдь не весеннее самочувствие поклонника: «Ты вся – осенний небосклон, розовый и светлый» («Разговор»). Действительные черты возлюбленной – запах кожи, цвет волос и глаз, звучанье голоса – сплошь и рядом едва упомянуты и служат Бодлеру с его изощренной ассоциативной чувствительностью толчком к тому, чтобы начал разматываться клубок завораживающих воспоминаний или сновидческих фантазий. Обладая гораздо большей зрелищностью, плотностью, ощутимостью, чем ее лицо или стан («Экзотический аромат», «Вся целиком»), они складываются в зыбкий, намекающий отсвет самого переживания в его не поддающихся прямой разгадке, но со всей непреложностью угадываемых метаморфозах.
Не менее насыщен положениями двойственными, промежуточными, внезапно опрокидывающимися и круг преобладающих у Бодлера умонастроений. Томительная скука временами источает апокалипсические наваждения («Фантастическая гравюра»), повергая в уныние и сломленность («Крышка»), выплескивается желчной язвительностью («Плаванье»), а то и побуждает устремляться душой в царство сладостных снов («Приглашение к путешествию») или, наоборот, изливается яростным бунтом:
Род Авеля, блаженный в Боге,
Тебе даны и сон и снедь.
Род Каина, тебе, убогий,
Во прахе ползать и истлеть.
…………………………………
Род Авеля, тебе во благо
Тучнеет злак, плодится скот.
Род Каина, как пес-бродяга,
Скулит голодный твой живот.
Род Авеля, твой дом – чертоги,
Тебя согрел очаг родной.
Род Каина, в своей берлоге
Ты, как шакал, дрожишь зимой.
………………………………………
Род Авеля, владея садом,
Пасешься ты, подобно тле.
Род Каина, тебе и чадам
Блуждать бездомно по земле.
Род Авеля, тебя ждет плаха
И вскинутых рогатин лес.
Род Каина, восстань из праха
И сбрось Всевышнего с небес!
«Авель и Каин». Перевод А. Ревича
Мятежное богоотступничество, когда всему земному творению выносится не подлежащий обжалованию приговор и с уст срываются клятвы переметнуться в стан Князя преисподней («Отречение святого Петра», «Моление Сатане»), нет-нет да и рассекает своими зарницами свинцовую мглу тоски, усталой подавленности («Разбитый колокол», «Осенняя песня», «Дурной монах»), цепенящего страха перед необратимым ходом времени («Часы»), бреда при белом дне («Семь стариков», «Скелет-землероб») – всех тех мучительных душевных перепутий, проникновенность передачи которых особенно способствовала распространению славы Бодлера к концу XIX в.
Когда свинцовость туч нас окружает склепом,
Когда не в силах дух унынье превозмочь,
И мрачен горизонт, одетый черным крепом,
И день становится печальнее, чем ночь;
Когда весь мир вокруг как затхлая темница,
В чьих стенах – робкая, с надломленным крылом,
Надежда, словно мышь летучая, кружится
И бьется головой в бессилии немом;
Когда опустит дождь сетчатое забрало,
Как тесный переплет решетчатых окон,
И словно сотни змей в мой мозг вонзают жало,
И высыхает мозг, их ядом поражен;
И вдруг колокола, взорвавшись в диком звоне,
Возносят к небесам заупокойный рев,
Как будто бы слились в протяжно-нудном стоне
Все души странников, утративших свой кров, –
Тогда в душе моей кладбищенские дроги
Безжалостно влекут надежд погибших рой,
И смертная тоска, встречая на пороге,
Вонзает черный стяг в склоненный череп мой.
«Сплин». Перевод И. Чежеговой
Сугубо личное всякий раз слегка повернуто у Бодлера так, чтобы вобрать правду трагического удела людского и заставить даже умы, наделенные крепким здоровьем, опо знать свои черные часы в бодлеровских сетованиях-изобличениях самого себя. Рассказ о своих срывах молчаливо подразумевает тут незащищенность и других – близких и дальних собратьев по роду человеческому – перед разрушительными соблазнами («Полночная самоповерка»), а не редко и подкреплен прямым размышлением о тщете, обманчивости упований там, где «мечта в разлуке с действием» («Отречение святого Петра»), о смертной доле всех живущих на земле:
Да, бездна есть во всем: в деяниях, в словах…
И темной пропастью была душа Паскаля.
Из бездны Смерть глядит, злорадно зубы скаля,
И леденит мне кровь непобедимый Страх.
Томят безмолвные пугающие дали,
Ужасна глубина, сокрытая в вещах;
Кошмары Божий перст рисует мне впотьмах,
Как знаки тайные на некоей скрижали.
«Бездна». Перевод В. Шора
Передуманное обретает в «Цветах Зла» особую полновесность тогда, когда предстает мучительно прожитым – действительностью пусть тягостной, но по-своему как бы обжитой душевно. Родство сущего и личности тут засвидетельствовано словно въяве самим строем метафорических оборотов, которые у Бодлера, в отличие от жестко односмысленного словоупотребления у других стихотворцев той поры, колышутся между предметным обозначением и отсылкой к настроению, иносказанием и прямосказанием; в таких случаях внешнее, созерцаемое как бы овнутрено, а внутреннее, испытываемое сейчас и здесь, – овнешнено:
Будь мудрой, Скорбь моя, и подчинись Терпенью.
Ты ищешь Сумрака? Уж вечер к нам идет.
Он город исподволь окутывает тенью,
Одним неся покой, другим – ярмо забот.
…………………………………………………
Ты видишь: с высоты, скользя меж облаками,
Усопшие Года склоняются над нами;
Вот Сожаление, Надежд увядших дочь.
Нам Солнце, уходя, роняет луч прощальный…
Подруга, слышишь ли, как шествует к нам Ночь,
С Востока волоча свой саван погребальный?
«Раздумье». Перевод М. Донского
От терзаний подобных бесед наедине со своей сердечной болью Бодлер порой готов бежать «куда угодно, лишь бы прочь из этого мира». Затевая очередной такой побег в желанные заповедные дали, где «все – порядок и красота, роскошь, нега, покой» («Приглашение к путешествию»), он знает, впрочем, что уезжать за тридевять земель не обязательно, да и заведомо чревато горчайшими разочарованиями: «искателя бесконечного – в предельности морей» под любыми широтами ждут встречи с самим собой – «оазисом ужаса в песчаности тоски» («Плаванье»).
Зато поблизости, совсем рядом, как будто существует отдушина «нездешнего» – безбрежная вселенная грез, по истине волшебное инакобытие, где личность мнит себя – но для себя совершенно достоверно – вышедшей за пределы земного, спасшейся от здешней «юдоли», сподобившейся благодати. Бодлер далеко не первый во Франции строитель воз душных замков как прибежища измаявшихся умов. Но он, как и Нерваль, среди первых вкладывал в сновидчество смысл, приближающийся к откровению «благой вести». Для него греза знаменует собой прорыв в другое, спасительное измерение жизни. Ради этого он не страшится прибегать подчас к нездоровым возбудителям и воплощает ее в словесном «колдовании», когда разнопорядковые жизненные подробности могут податливо сопрягаться по законам чаемо го, а не действительного. В такие счастливые миги бодрствования-грезы он точно зрит «новое небо и новую землю» – более настоящие, чем само настоящее. «Земное, – готов он тогда заключить, – существует в весьма малой степени… Неподдельно действительное – в мечтаниях».
Бодлер же вместе с тем был одним из первых, кто извлек из приключений в стране чудесных грез горький урок для всех подобных мучеников миражей.
Так старый пешеход, ночующий в канаве,
Вперяется в Мечту всей силою зрачка.
Достаточно ему, чтоб Рай увидеть въяве,
Мигающей свечи на вышке чердака.
Плаванье». Перевод М. Цветаевой
Урок тем более сокрушительный, что невыносимо скверное повседневье снова и снова распаляет жажду бегства у вернувшегося с пустыми руками из сказочного забытья, и тогда охотникам за несказанно-блаженной «инакостью» ничего не остается, кроме тупикового исхода, обозначенного под самый занавес «Цветов Зла»:
Смерть! Старый капитан! В дорогу! Ставь ветрило!
Нам скучен этот край! О Смерть, скорее в путь!
Пусть небо и вода – куда черней чернила,
Знай – тысячами солнц сияет наша грудь!
Обманутым пловцам раскрой свои глубины!
Мы жаждем, обозрев под солнцем все, что есть,
На дно твое нырнуть – Ад или Рай – едино! –
В неведомого глубь – чтоб новое обресть!
«Плаванье». Перевод М. Цветаевой
Есть, однако, у Бодлера в запасе помимо сновидений и еще один путь избавления от затерянности в дебрях собственной скорби – путь, на сей раз не уводящий от жизни, а, напротив, к ней приводящий. Он пролегает через мостовые парижских улиц и площадей, где на каждом шагу могут состояться встречи, позволяющие забыть о своей хандре, мысленно переселиться в чужую оболочку, дорисовав в во ображении участь случайного прохожего, чей облик почему-то вдруг выделился из толпы, запал в память («Рыжей нищенке», «Прохожей»). Так возникают в «Цветах Зла» городские зарисовки, в основном вынесенные в раздел «Парижские картины», но встречающиеся и в других частях книги (как «Вино мусорщика» или «Смерть бедняков»), – блистательное воплощение «духа современности» (modernit?), которое Бодлер полагал одной из своих важнейших задач; оно действительно сделало его первооткрывателем лирики новейшей городской цивилизации.
Бодлеровский Париж – пестрое всеединство жизни, перекресток веков и нравов, где столкнулись, перепутались, сплелись уходящее и завтрашний день, шумное многолюдье и одиночество посреди толчеи, роскошь и невзгоды, разгул и подвижничество, грязь и непорочность, сытое самодовольство и набухающий гнев, седая старина и приметы только-только возникающего (которые у Бодлера не выглядят, однако, броскими вкраплениями, а встроены без малейших зазоров в описания наряду с давнишним, примелькавшимся: «Трубы, колокольни – эти мачты города» или о заводском дыме: «Угольные реки устремляются вверх к небосводу»). Здесь, в городе, дворцы и задворки не разведены, как замок и деревня, тут царит вселенское смешение: неудачники ютятся по соседству с баловнями судьбы, бедноте из трущоб случается в пестрой уличной толпе очутиться рядом с обитателями пышных особняков, на окраины изрыгается «мутная рвота огромного Парижа», и оттуда же, из предместий, где «кипит грозовое бродило», на его площади выплескивается иной раз бунтарская лава. В парижских набросках Бодлера отчетливо приоткрывается нравственно-социальная грань его лирического дара, продолжающего, несмотря на все разочарования, быть подключенным к недовольству и протесту, загнанным во Франции после 1851 года в глухое подполье, однако не выкорчеванным из умов. Потому-то и не отрекся от помыслов о справедливом переустройстве жизни бодлеровский подвыпивший бедолага-мусорщик, бредущий в потемках, бормоча себе что-то под нос:
Он бесправным, униженным дарит права,
Он злодеев казнит и под злым небосклоном
Человечество учит высоким законам.
«Вино мусорщика». Перевод В. Левика
В подобных стихотворениях «Цветов Зла» – таких, как «Старушки», «Лебедь», «Вечерние сумерки», «Служанка скромная…», «Предрассветные сумерки», ряде других, проникнутых обидой за жертв житейской жестокости, – Бодлер, по словам Анатоля Франса, «почувствовал душу трудящегося Парижа».
Словно выхваченные на лету из уличной сутолоки, так, чтобы сохранилась вся свежесть впервые поразившего, мет кие наблюдения Бодлера, завзятого путешественника по Парижу, вместе с тем складываются обычно не столько в зрелище, сколько в видение – плод все того же «сверхприродного» примысливания, в котором сквозит зачарованность самого наблюдателя порой радужным, порой пугающим волшебством городского повседневья. «Людской муравейник, где средь бела дня призраки цепляют прохожего», Париж Бодлера – город тайн, кладезь «чудесного» («Семь стари ков»). На самые заурядные вещи ложится печать странно-таинственного, когда они у Бодлера трепещут в мерцании газовых рожков, отбрасывают причудливые тени, плавают в желто-грязном тумане. Вовлеченные в хоровод метаморфоз – преломлений сквозь призму душевного настроя, по дробности городского быта то прорастают скрежещущим гротеском кошмара, словно перенесенного со средневековых гравюр («Семь стариков», «Скелет-землероб»), то поднимают со дна памяти вереницу дорогих сердцу ликов, вновь и вновь возвращают к неотвязным думам («Лебедь»). И подобно тому как это происходит при погружениях Бодлера в душевные недра, так и взор его, обращенный вовне, словно бы предвещая зрение живописцев-импрессионистов, избирательно и напряженно внимателен к положениям переломным, стыковым (излюбленное время суток – сумерки, предрассветные или вечерние, излюбленное время года – осень), когда увядание и рождение, покой и суета, сон и бодрствование теснят друг друга, когда блики предзакатного или встающего солнца рассеянно блуждают, все очертания размыты, трепетно брезжат:
Казармы сонные разбужены горнистом.
Под ветром фонари дрожат в рассвете мглистом.
Вот беспокойный час, когда подростки спят,
И сон струит в их кровь болезнетворный яд,
И в мутных сумерках мерцает лампа смутно,
Как воспаленный глаз, мигая поминутно,
И, телом скованный, придавленный к земле,
Изнемогает дух, как этот свет во мгле.
Мир, как лицо в слезах, что сушит ветр весенний,
Овеян трепетом бегущих в ночь видений.
Поэт устал писать, и женщина – любить.
Вон поднялся дымок и вытянулся в нить…
«Предрассветные сумерки». Перевод В. Левика
Когда-то Гюго, которому Бодлер послал в изгнание две свои «парижские картины» («Старушки» и «Семь стариков»), не обманулся почтительными заверениями сопровождавшего их письма об ученичестве у него как старшего мастера и безошибочно распознал в «Цветах Зла» «новый трепет».
Чутье Гюго было тем проницательнее, что внешне, по своему версификационно-словарному обличью, бодлеровская поэтика выглядела тогда чуть ли не анахроничной сравни тельно с раскрепощенностью и изобилием самого Гюго: ведь Бодлер «вернулся к менее свободной просодии», чем у стихотворцев предыдущего поколения, поскольку «почти всегда искал и умел дать ощущение сдержанной пре лести» (Валери). За этой жесткой упорядоченностью, а точнее – в разительно упорядоченной «расиновской» передаче распутицы сердца и ума, Гюго, однако, уловил не откат вспять, а ценное приращение, обогащение лирической куль туры Франции. И здесь – ключ к бодлеровской самобытности: внутри редкостно стройного космоса тут и впрямь «хаос шевелится» (Тютчев). Прозрачная аналитика душевной смуты; изысканный, а то и вызывающе «барочный» и в своих удручающих наваждениях, и в своих хрупких грезах вымысел, поведанный с задушевной простотой; чеканная ворожба при знаний в путанице страстей; непреложная правда странного; подчеркнутые прописной буквой аллегорические отвлеченности в окружении тщательно прорисованных, тонко подсвеченных и подцвеченных деталей; точеный прямой афоризм, зачастую увенчивающий намекающе-окольную метафорическую вязь; текучая, порой с напевными перекличками звукопись и подспудное извилистое струение крепко сбитых, ритмически уравновешенных строк, плотно пригнанных друг к другу внутри расчисленных до последней мелочи строфических построений; совершенное изящество сравнительно несложных архитектонических решений при изощренно гибкой проработке оттенков; причудливый гротеск в скромном обрамлении; кристаллизовавшееся нервическое бродило чувств – в «Цветах Зла» исповедальная лава «больного вулкана», как назвал себя однажды Бодлер, бурлит в безупречно строгих изложницах. По словам Луначарского, Бодлеру, сумевшему сохранить «полное достоинство», вглядываясь в «ужас жизни», присуще мужественное мастерство: он «знает, что жизнь представляет собой мрак и боль, что она сложна, полна бездн. Он не видит перед собой луча света, он не знает выхода. Но он от этого не отчаялся, не расхандрился, напротив, он словно сжал руками свое сердце. Он старается сохранить во всем какое-то высокое спокойствие… Он не плачет. Он поет мужественную и горькую песню именно потому, что не хочет плакать».
Другой давний заветный замысел Бодлера, наряду с «Цветами Зла», – стихотворения в прозе, опубликованные отдельной книгой «Парижская хандра» посмертно, в 1869 г. В последнее десятилетие жизни, подхлестываемый разрушительной болезнью, безденежьем, бытовыми неурядица ми, Бодлер тем не менее постоянно возвращался к этой работе, печатал в журналах подборки из задуманной книги, пока летом 1866 г., во время поездки по Бельгии в надежде поправить донельзя расстроенные дела, его внезапно не разбил паралич.
Поясняя свой замысел, для тех лет дерзостно-непривычный, Бодлер ссылался на годами бродившие у него в уме «мечты о чуде поэтической прозы, музыкальной без размера и ритма, достаточно гибкой и вместе с тем неровной, чтобы примениться к лирическим движениям души, волнистым извивам мечтаний, порывистым прыжкам сознания». Своим прямым предтечей он называл Алоизия Бертрана, однако добавлял, что «попытка прибегнуть к тем же приемам для описания» уже не Средневековья, как в бертрановском «Ночном Гаспаре», а «сегодняшней жизни» в конце концов дала «нечто странным образом другое» – «новое и по миро ощущению, и по выражению».
Основной пласт «Парижской хандры» – непосредственное продолжение предпринятых еще в «Цветах Зла» раскопок «волшебно-чудесного», будь оно исполненным очарования или жути, в самой что ни на есть заурядной городской повседневности. К жанровому изобретательству в пограничье прозы и поэзии Бодлера подталкивала потребность прочно внедрить обыденное, до тех пор бывшее достоянием романных повествований и отчасти театра, в самую ткань лирики, которая дольше своих соседей питалась преимущественно токами придворной или, в крайнем случае, сельской цивилизации.
Культура романтиков, за немногими, сравнительно робкими исключениями (вроде ценимой за это Бодлером ранней лирики Сент-Бёва), чуралась городских стен, разве что это был город старинный с его «дворами чудес», пламенеющей готикой соборов, буйством карнавала; вслед за Руссо она порывалась бежать на лоно природы, к брегам озер и морских лагун, в безлюдные горы, привольные долины. Бодлер тоже из семейства задумчивых любителей одиноких прогулок, каковое расселилось в словесности с конца XVIII в., и, по жалуй, не хуже своих старших умеет порой насладиться мигами блаженства, когда личность, отринув от себя постылые житейские обязательства и заботы, причащается бегу «облаков, что плывут в вышине, там над нами… волшебных облаков» («Чужестранец»). Ее слияние с бездонной вселенной столь нерасторжимо тогда, что уже не различить, то ли вещи «мыслят моим мозгом – то ли это мой мозг мыс лит ими (ведь в безмерности грезы «Я» теряется быстро). Да, они мыслят, говорю я, но мыслят музыкально и живописно, без хитросплетений рассудка, без силлогизмов и выкладок» («Покаянная молитва художника»).
И все-таки глухим лесным тропам Бодлер предпочитает мостовые, а «жизненных пиршеств» чаще всего ждет от купаний в столичном «людском море»; ему уже ведома горькая и манящая тайна самочувствия горожанина в том скопище, что сто лет спустя будет названо «толпой одиночек»: «Многолюдье, одиночество – слова эти равны и легко заменяют друг друга» («Толпы»).
Поэтому разрыв, который приковывает его помыслы и гнетет, не столько между человеком и вселенской жизнью, – здесь мосты наводятся, хотя и не без труда, – сколько между самими людьми.
Между «я» и «другими», родом и отпавшей от него особью, между довольным собой братством – с лица и злосчастьем пасынков – с изнанки («Старый паяц»). К этой расщелине как причине жестоко ранящих гримас жизни, он, точно завороженный, снова и снова возвращается, независимо от того, намерен ли воплотить свои тревожные раздумья о ней в мгновенной зарисовке («Шут и Венера», «Глаза бедняков», «Вдовы») или они вырастают до крохотного рассказа или очерка («Веревка», «Мадемуазель Бистури»), а то и панорамного обзора («Вечерние сумерки»), подкрепляются ли они моралистическим суждением под занавес («Пирожок») или умело найденной подробностью – такой, как равная белизна зубов двух детей, богатого и нищего, играющих по разную сторону садовой ограды один роскошной куклой, другой – дохлой крысой, испытывая жгу чую взаимную зависть («Игрушка бедняков»). Описание у Бодлера, слепок с достоверно происшедшего, вместе с тем имеет обычно неожиданный сдвиг («Фальшивая монета», «Собака и флакон»), таит в себе какую-то несообразность («Дурной стекольщик», «Избивайте нищих!»), а нередко выливается в притчевую фантасмагорию:
Под серым необъятным небом, на пыльной необозримой равнине, где ни тропинки, ни травы, ни чертополоха, ни крапивы, мне повстречалась толпа бредущих куда-то вдаль согбенных странников.
И на спине каждый тащил огромную Химеру, увесистую, словно мешок муки или угля или словно ранец римского легионера.
Но совсем не казались мертвой ношей эти чудовищные твари; сов сем нет: они вцеплялись в людей мощной хваткой, всей силой упругих мышц, они вонзали в грудь своих усталых кляч два громадных когтя; их причудливые рыла нависали над человеческими головами подобно устрашающим гребням древних шлемов, которыми античные воины пугали врагов.
Я обратился к одному пилигриму, спросил, куда они идут. Он отвечал, что не знает, что это никому не известно, но, очевидно, они куда-нибудь идут, поскольку что-то заставляет их куда-то брести.
Что было странно: никто из этих пешеходов, казалось, даже не замечал чудовища, обхватившего шею, приросшего к спине; словно эта тварь была лишь частью человеческого тела. Я не заметил отчаяния на этих строгих усталых лицах; путники брели под унылым куполом неба, их ноги утопали в пыли равнины, пустынной, как небо свод; они брели с покорным выражением лица, как все обреченные на вечную надежду.
Процессия тянулась, проходила рядом со мной, тонула в дымке горизонта, там, где закругляется поверхность земли и прячется от любопытных человеческих глаз.
Сперва еще я пытался понять, что означало это таинство, но вскоре на меня навалилось тупое равнодушье, и я ощутил тяжесть, какой не ощущали эти люди, таща на спине свои Химеры.
«У каждого своя химера». Перевод А. Ревича
Наряду с той или другой толикой «странного» в каждодневно-стертом, примелькавшемся, прозаический отрывок де лает стихотворением в прозе его повышенная смысловая и структурная напряженность. Она достигается у Бодлера густой лирической насыщенностью внутренней атмосферы та кого отрывка – доверительно исповедальной («Полмира в волосах», «Опьяняйтесь!»), желчно саркастической («В час утра», «Дары фей»), овеянной грезами («Приглашение к путешествию», «Прекрасная Доротея»), несущей в себе выстраданный вызов («Куда угодно, лишь бы прочь из этого мира»). Собственно, в совмещении вроде бы несовместимых умонастроений Бодлер и видел неповторимый уклад городского жизнечувствия, переплавившего в своем горниле край не несхожие между собой нравы, судьбы, переживания, помыслы. В самом письме стихотворений в прозе он искал прежде всего единства чересполосицы сталкивающихся и переходящих друг в друга словесных построений – то прихотливо вьющихся, изысканных, струящихся, то взрывных, задыхающихся, то круто взмывающих вверх в увлеченном порыве, то устало опадающих в афористично оброненной житейской мудрости. Тщательная проработка и отделка сырья наблюдений, до того отталкивавшего большинство французских лириков своей неказистостью, давались Бодлеру мучительно трудно. Однако полученный результат вполне оправдал обращение к Парижу в одном из бодлеровских рукописных набросков: «Ты дал мне грязь, и я обратил ее в золото».
С тех пор как четыре года спустя после смерти Бодлера мало к кому питавший почтение ершистый подросток-бунтарь Рембо по-своему подтвердил, что бодлеровское лирическое «золото» действительно самой высокой пробы, когда признал в письме к другу: «Бодлер… король поэтов, настоящий бог», – мнение это только укреплялось. Сегодня оно во Франции непререкаемо.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.