Любовные письма Хвалебное слово в адрес Джеймса Парди по случаю вручения ему премии Фадимана от Центра художественной литературы за роман «Юстас Чизам и все остальное»
Любовные письма
Хвалебное слово в адрес Джеймса Парди по случаю вручения ему премии Фадимана от Центра художественной литературы за роман «Юстас Чизам и все остальное»
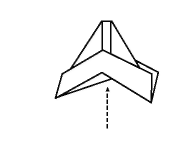
Не знаю, помнит ли кто-нибудь из присутствующих прошлогодний футбольный матч между командами Станфордского и Калифорнийского университетов. У Станфорда, напомню, команда куда более слабая с куда более короткой скамейкой запасных, счет побед и поражений, по-моему, 2–7, но в первой половине игры ощущение было такое, что Станфорд может и победить: его защита была до того боевито настроена, что игроки потеряли всякий страх перед травмами. Парни, широко расставив руки, носились на полной скорости и со всей силы бросались на еще более крепких парней, так же быстро несущихся им навстречу. Происходили картинные, ужасные столкновения, — казалось, что у тебя на глазах человек на полном бегу врезается в телефонный столб, и тоска брала от того, скольких станфордских футболистов с серьезными травмами унесли с поля; но оставшиеся продолжали и продолжали кидаться на соперников. Впечатление от их обреченных усилий, от этих многочисленных радостно-саморазрушительных столкновений, на которые шли молодые люди, отчаянно желавшие чего-то, от всего этого хаоса в рамках большой, захватывающей, великолепной по форме игры, чей исход, однако, был, по сути дела, предопределен, — я не могу найти лучшего аналога для своего впечатления от книги «Юстас Чизам и все остальное».
Роман мистера Парди так хорош, что почти всякий другой роман, если его прочесть следом, покажется в сравнении хоть немного да позерским, не совсем честным, отдающим дань самолюбованию. Безусловно, к примеру, «Над пропастью во ржи», который мистер Парди как-то раз назвал «одной из худших книг, что были написаны», как никогда ярко обнаружит свойственную ему сентиментальность и риторическую манипулятивность. Ричард Йейтс, чье неистовство порой приближается к неистовству мистера Парди, будет выглядеть получше, но хотелось бы начисто вымести всю йейтсовскую жалость к себе и заменить ее безрассудной любовью; хотелось бы поставить подавленность Йейтса на дыбы и превратить ее в фатализм до того беспросветный, что он становится экстатическим. Даже Сол Беллоу, чья любовь к языку и миру бывает столь заразительна, начинает, если читать его сразу после «Юстаса Чизама», казаться писателем многословным, академичным, пускающим пыль в глаза.
Одна из сравнительно мрачных глав его романа об Оги Марче кончается тем, как Оги провожает свою подругу Мими в абортарий на нью-йоркском Саутсайде. Если Беллоу опускает занавес, не показывая нам того, что происходит внутри, то мистер Парди в знаменитой, незабываемой, невероятной сцене «Юстаса Чизама» являет нам весь этот ужас. Крайности того стабильного, всем нам знакомого мира, что изображают Сол Беллоу и большинство писателей, включая меня, — это самое нормальное, что есть в мире мистера Парди. Он начинает там, где остальные заканчивают. Он сопровождает своих «голубых» юношей, непризнанных художников и развратных миллионеров в такие места, как «кафе-мороженое на отшибе, у границы штата, где любили останавливаться водители грузовиков с контрабандой, где проводили время дамы, изменяющие мужьям с ответственными работниками местных банков и строительных фирм, где однажды пастор был застрелен вдовой, которую он разлюбил, где ближе к вечеру собирались местные гомики», и наделяет эти заведения некой диковинной Gem?tlichkeit.[60] Вам становится жаль, что вы не побывали там сами, примерно так же как вы жалеете, что не катались на санях с Наташей Ростовой. В конце «Юстаса Чизама» два персонажа выходят на каменистый берег озера Мичиган:
Они сели на камни и вспомнили прошлый год: насколько менее отчаявшимися и более счастливыми они тогда были, сидя на этом же месте, и как велико тем не менее было их отчаяние уже в то время! Несколько чаек кружили над отбросами, плававшими в подернутой масляной пленкой воде.
Что для большинства из нас эксцесс, то в мире мистера Парди хлеб насущный. Он предлагает вам примерить отчаяние, и оказывается, что оно сидит на вас лучше, чем вы ожидали. Его самые чудны?е сумасброды не кажутся такими уж сумасбродами. Они кажутся, что любопытно, такими же, как мы сами. Я читаю в «Юстасе Чизаме» об унижении, инцесте, отвращении к себе и саморазрушении с таким же живым, сочувственным и морально зрячим интересом, с каким у Джейн Остин читаю о разорванных помолвках и обидах сердца. Берясь за роман Парди, вы можете быть уверены, что хорошо все не кончится, но великий дар писателя выражается в том, что движение к неотвратимой катастрофе он умеет сделать источником такого же удовлетворения, какое получаешь от движения к счастливой концовке, что он умеет сделать подобную историю по-своему жизнеутверждающей. А если, как на трех последних страницах «Юстаса Чизама», Парди под конец бросает вам крохи обычной надежды и заурядного счастья, вы готовы зарыдать от чистейшей благодарности. Словно бы книга, чуть ли не вопреки самой себе, приобщает вас к чуду, которое в том, что любовь хоть когда-либо не остается безответной, что два подходящих друг другу человека хоть когда-либо образуют пару. Вы уже так приучены к несчастью, вы уже настолько сроднились с фаталистическим взглядом писателя на мир, что момент обыкновенного мира и доброты воспринимается как проявление божественной благодати.
Мистера Парди следует отличать от его покойного современника Уильяма Берроуза и от многих последователей Берроуза, авторов трансгрессивной прозы. Трансгрессивная литература всегда — тайно или не так уж тайно — адресована буржуазному миру, от которого она зависит. Читая такую прозу, ты должен выбрать одно из двух: либо испытать шок, либо шокировать других тем, что шока не испытываешь. Хотя в своих публичных выступлениях мистер Парди делает упор на американском обществе, говоря о нем с непримиримой враждебностью, в художественных произведениях он обращает взгляд внутрь человека. В «Юстасе Чизаме» автор ни единой фразой не дает почувствовать, что его хоть в малейшей степени волнует, шокирован кто-нибудь из читателей или нет. Тот негерой, чьим именем назван роман, — жестокий, заносчивый, живущий за чужой счет поэт-бисексуал, пишущий эпическую поэму о современной Америке угольным карандашом на старых газетах, — испытывает навязчивую тягу к чтению чужих писем и дневников:
В больших городах, в отличие от городков, немало людей случайных… которые небрежно относятся к полученным письмам, теряют их на ходу, выбрасывают. Прохожие обычно не считают эти письма достойными того, чтобы нагнуться и подобрать: там нет, предполагают они, ничего такого, что может заинтересовать, задержать на себе внимание. Но Юстас думал иначе. Он вчитывался в найденные письма, адресованные не ему. Для него это были сокровища, говорящие в полный голос. Раем для Юстаса могло бы стать место, где ему были бы доступны любовные письма каждого, сколь бы ни был он незначительным или даже малограмотным человеком, лишь бы только письма были настоящие. Поистине захватывающим делала его занятие возможность напасть на нечто редкое: услышать подлинный, обнаженный, откровенный голос любви.
В конце концов Чизам так пристрастился к чужим реальным историям, что забросил свое сочинительство и безраздельно посвятил внимание центральной любовной истории романа: безумной, неутоленной страсти между молодым бывшим шахтером Дэниелом Хозом и красивым, светловолосым сельским юношей Эймосом Ратлиффом. Парди во много раз более крупная, сильная и многосторонняя личность, чем сотворенный им Чизам, он автор сорока шести книг, куда вошли его проза, поэзия и пьесы, но ясно чувствуется, что им как писателем движет та же беспомощная завороженность человеческим страданием, то же отождествление себя с ним. Каким бы авторским самомнением мистер Парди ни отличался, каким бы злопыхателем своими публичными заявлениями себя ни выставлял, он, когда берется рассказать историю, каким-то образом сдает все свое «эго» куда-то на хранение и полностью вживается в своих персонажей. Он был и остается одним из самых недооцененных и недопрочитанных писателей Америки. Из его многих замечательных произведений «Юстас Чизам» — наиболее крепкая вещь, лучше всех написанная, самая напряженная по сюжету, самая красивая по построению. Крайне мало послевоенных американских романов, превосходящих эту книгу, и я не знаю ни одного другого романа подобного качества, который более дерзко был бы самим собой. Я люблю эту вещь, и возможность присудить автору премию Фадимана — великая честь для меня.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Наши задачи в области художественной литературы*
Наши задачи в области художественной литературы* Стенограмма доклада на издательском активе ЗИФаI«Земля и фабрика»1, будучи государственным советским издательством, не может иметь никакой другой литературной политики, кроме политики партии, и должна выбрать себе
Актуальнейшие темы художественной литературы*
Актуальнейшие темы художественной литературы* Очень трудно отдельной личности наметить актуальнейшие темы такой громадной общественной силы, как наша литература (то есть, другими словами, работы всей совокупности наших писателей), — темы, в которых отразилась бы
Николай Егоров РЕКИ ИЗ КАПЕЛЬ Заметки по случаю
Николай Егоров РЕКИ ИЗ КАПЕЛЬ Заметки по случаю Капля камень точит. Поэтому, наверно, и появился как-то и ненадолго на дверях одного из домов в центре Челябинска такой вот самодельный плакатик: фанера, на фанеру наклеен кусок географической карты с миллионным городом,
«Любовные» повести Тургенева
«Любовные» повести Тургенева В 1850-е годы формируется тип «любовной» тургеневской повести – одного из важнейших жанров в творчестве писателя. К характернейшим образцам этого жанра относятся: «Затишье» (1854), «Яков Пасынков» (1855), «Переписка» (1856), «Фауст» (1856), «Ася» (1859),
ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ КАК РОМАН
ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ КАК РОМАН Взгляну с улыбкою печальной На этот мир, на этот дом, Где я был с счастьем незнаком, Где я, как факел погребальный, Горел в безмолвии ночном; Где, может быть, суровой доле Я чем-то свыше обречен… Полежаев. «Осужденный» Его цель — сделаться
Адрес для писем
Адрес для писем Борису Федоровичу Малкину
Боль — это не смертельно Речь на церемонии вручения дипломов в Кеньон-колледже, май 2011 года
Боль — это не смертельно Речь на церемонии вручения дипломов в Кеньон-колледже, май 2011 года Доброе утро, выпуск две тысячи одиннадцатого года! Доброе утро, родные выпускников и их преподаватели! Для меня быть здесь сегодня огромная честь и удовольствие.Позвольте мне
Бандерша и сутенер Роман литературы с идеологией: кризис жанра
Бандерша и сутенер Роман литературы с идеологией: кризис жанра 1Сумятица нашей жизни, как известно, проясняется в анекдотах. «Низкая» устная словесность — в зависимости от смены эпох — меняет свои клише, и по перегруппировке ключевых слов и ситуаций можно судить о болях
II. Схема к изучению русской художественной литературы
II. Схема к изучению русской художественной литературы После предыдущих страниц может показаться странной и непоследовательной попытка уложить в какую бы то ни было схему развитие нашей художественной литературы и представить последнюю как некое целостное единство. Но,
Из доклада: «Актуальные вопросы художественной литературы»*
Из доклада: «Актуальные вопросы художественной литературы»* 24 января 1930 г.…Сущность нашей марксистской позиции в литературоведении, как известно, заключается в том, что мы, во-первых, рассматриваем всякое искусство, в том числе и литературу, как отражение общественной
Каламбурное слово и природа художественной образности в комедии «Недоросль»
Каламбурное слово и природа художественной образности в комедии «Недоросль» История интерпретации комедии «Недоросль» за истекшие два века – от первых критических отзывов XIX в. до фундаментальных литературоведческих трудов XX в. – неукоснительно возвращает любого