Ты уверен, что ты сам не дьявол? Об Элис Манро
Ты уверен, что ты сам не дьявол?
Об Элис Манро
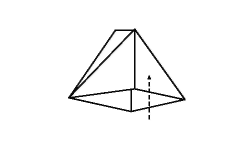
Элис Манро всерьез претендует на статус лучшего современного писателя Северной Америки, но за пределами Канады, где ее книги — бестселлеры номер один, круг ее читателей всегда был невелик. Рискуя выглядеть просителем за очередного недооцененного автора (возможно, вы научились распознавать подобные просьбы и уклоняться от них — точно так же как научились не открывать писем из массовой рассылки определенных благотворительных учреждений? «Очень вас просим, подайте на бедность Дон Пауэлл…[62] Ваше пожертвование — всего пятнадцать минут в неделю — поможет поставить Йозефа Рота на заслуженное место в современном литературном каноне…»), я хотел бы покрутиться вокруг последней чудо-книги Манро — сборника «Беглянка» — и высказать кое-какие догадки о том, почему ее слава так разочаровывающе отстает от совершенства ее прозы.
1. Главное при чтении Манро — удовольствие от нее как от рассказчицы.
Проблема в том, что многие покупатели серьезной художественной прозы, похоже, решительно предпочитают лирические, трепетно-доверительные, псевдолитературные вещи.
2. Манро не тот случай, когда можно по ходу дела еще и набраться гражданственности или получить исторические сведения.
Ее тема — люди. Люди-люди-люди. Если вы читаете художественное произведение на какую-нибудь богатую тему — скажем, об искусстве эпохи Возрождения или о важной главе в истории нашей страны, — вы можете быть уверены, что проводите время с пользой. Но если действие происходит в современном мире, если заботы персонажей вам не чужды и книга так вас заняла, что вы не можете ее отложить, хотя уже пора спать, возникает подозрение, что автор вас просто-напросто развлекает.
3. Она не дает своим книгам таких помпезных названий, как «Канадская пастораль», «Канадский психопат», «Пурпурная Канада», «В Канаде» или «Заговор против Канады».
А еще она отказывается резюмировать самое важное и драматичное, придавать ему удобную опосредованную форму. А еще ей дорого обходятся сдержанность по части риторики, тончайший слух на живую речь и почти патологическое сочувствие к своим персонажам — из-за всего этого ее авторское «я» на много страниц подряд уходит в тень. А еще она приятно улыбается с обложек своих книг, давая понять, что читатель ей друг, а не строит хмурую мину, которую считают признаком подлинно серьезных литературных намерений.
4. Шведская королевская академия непоколебима.
В Стокгольме явно считают, что Нобелевку по литературе уже получило чересчур много канадцев и слишком много авторов, пишущих только рассказы. Сколько можно!
5. Манро пишет художественную прозу, а ее труднее рецензировать, чем литературу иного рода.
Взять, к примеру, Билла Клинтона: вот он написал книгу о себе — как интересно! Как интересно! Интересен уже сам автор — может ли быть лучшая кандидатура, чтобы написать книгу о Билле Клинтоне, чем сам Билл Клинтон? — и, кроме того, у всех есть мнение о Билле Клинтоне, все задаются вопросами, что Билл Клинтон в новой книге сообщает о себе и о чем умалчивает, почему он выпячивает одно и опровергает другое, и ты глазом не успел моргнуть, а рецензия уже практически написалась.
А кто такая Элис Манро? Отдаленный поставщик очень больших личных удовольствий. И поскольку мне неинтересно освещать то, как продается ее новая книга, поскольку мне не хочется развлекать читателя колкостями на ее счет и не хочется рассуждать о конкретном смысле ее новой работы (это трудно сделать, не раскрывая сюжетов), я, пожалуй, удовлетворюсь тем, что подкину издательскому дому «Альфред А. Кнопф» пару милых фраз для обложки:
«Манро всерьез претендует на статус лучшего современного писателя Северной Америки. Ее ‘Беглянка’ — чудо», —
и предложу редакции критического еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью» поместить на самом видном месте самую крупную фотографию Манро, какую только можно, добавить к ней несколько меньших фотографий, представляющих интерес для особо любопытных (ее кухня? ее дети?), процитировать, может быть, какое-нибудь из ее редких интервью:
Потому что есть это чувство вычерпанности, это смущение, когда смотришь на свою прежнюю работу… По сути дела, у тебя имеется только то, над чем ты работаешь сейчас. Это значит, что ты едва одета. Выходишь на люди в одной тоненькой рубашонке — это твоя теперешняя работа — и с ощущением малопонятной связи со всем, что сделано раньше. Потому-то я и не беру на себя никакой публичной писательской роли. Если бы я стала ее играть, то чувствовала бы себя колоссальной обманщицей… —
и этим ограничиться.
6. Что еще хуже, Манро пишет только рассказы.
Это ставит перед рецензентом еще более тяжелую задачу. Есть ли в мировой литературе рассказ, чье очарование способно сохраниться в типовом кратком изложении сюжета? (Скучающий муж случайно знакомится на ялтинской набережной с дамой, которая гуляет с собачкой… Ежегодная лотерея в маленьком городке служит, как выясняется, довольно неожиданной цели… Дублинец средних лет после рождественской вечеринки размышляет о жизни и любви…) Опра Уинфри[63] не будет связываться со сборником рассказов. Обсуждать рассказы настолько трудно, что можно почти простить бывшего редактора «Нью-Йорк таймс бук ревью» Чарльза Макграта за недавнее сравнение молодых авторов, пишущих рассказы, с «людьми, которые хотят научиться играть в гольф, но на поле выходить не отваживаются, а только практикуются на тренировочной площадке». Настоящая игра, хочет он сказать, это роман.
Предрассудок Макграта разделяют почти все коммерческие издатели: для них сборник рассказов — чаще всего неприятная, убыточная первая половина сделки на две книги, вторая половина которой по договору никоим образом не может быть еще одним сборником рассказов. И тем не менее, несмотря на Золушкин статус рассказа — или, может быть, благодаря ему, — весьма высокий процент всего самого волнующего, что было создано в художественной литературе за последние двадцать пять лет, того, что я немедленно назову, если меня спросят, какие вещи я считаю замечательными, составляют произведения малой формы. Есть, разумеется, сама Великая Писательница. Есть, кроме нее, Лидия Дэвис, Дэвид Минс, Джордж Сондерс, Эми Хемпель и покойный Раймонд Карвер — все они авторы одних рассказов или почти одних рассказов, — и есть более обширная группа писателей, которые добились успеха в разных жанрах (Джон Апдайк, Джой Уильямс, Дэвид Фостер Уоллес, Лорри Мур, Джойс Кэрол Оутс, Денис Джонсон, Энн Битти, Уильям Т. Воллман, Тобиас Вулф, Энни Пру, Майкл Шейбон, Том Друри, покойный Андре Дюбю), но, по-моему, показали, что самая естественная для них среда, где они смогли в наибольшей мере быть самими собой, — это короткая проза. Есть, разумеется, и великолепные чистые романисты. Но когда я закрываю глаза и принимаюсь думать о литературе последних десятилетий, я вижу сумеречный пейзаж, в котором многие из самых манящих огоньков, многие из мест, где мне хочется побывать снова, — это те или иные прочитанные мной рассказы.
Рассказ нравится мне тем, что не оставляет писателю места, куда ему спрятаться. Не дает возможности выкрутиться за счет длинного языка: я дойду до последней страницы совсем скоро, и если тебе нечего сказать, я это пойму. Рассказ нравится мне тем, что действие в нем обычно происходит в настоящем или в границах живой памяти; жанр, похоже, сопротивляется побуждению углубиться в историю, из-за которого столь многие современные романы отдают бегством от действительности или просто-напросто мертвечиной. Рассказ нравится мне тем, что необходим талант самой высокой пробы, чтобы, рассказывая одну и ту же историю снова и снова, изобретать свежие характеры и положения. Все, кто пишет художественные произведения, порой оказываются в ситуации, когда не могут сказать ничего нового, но авторы рассказов подвержены этой болезни в наибольшей степени. Спрятаться, повторяю, им негде. Самые искушенные из них, такие тертые калачи, как Манро и Уильям Тревор, даже и не пытаются.
Вот история, которую Манро рассказывает раз за разом. Смышленая, чувственная девушка выросла в сельской части Онтарио в семье очень скромного достатка, мать больна или умерла, отец — школьный учитель, его вторая жена — женщина трудная, и девушка, едва представляется возможность, сбегает из глубинки, получив учебную стипендию или решившись на какой-нибудь своекорыстный поступок. Она рано выходит замуж, переезжает в Британскую Колумбию, растит детей, потом брак ее рушится, и она раскрывается при этом далеко не с безупречной стороны. Она добивается успеха, скажем, как актриса, или как писательница, или на телевидении; она крутит головокружительные романы. Когда же она, что неизбежно, возвращается в Онтарио, оказывается, что пейзаж ее юности изменился, причем так, что ей есть отчего расстроиться. Она покинула эти места, потому что так хотела, но нынешний далеко не теплый прием очень сильно бьет по ее нарциссизму: мир ее юности, мир более традиционных манер и нравов теперь строго судит современные поступки, которые она совершила. Она всего лишь попыталась выжить как цельная и независимая личность — но для тех, кто здесь остался, это стало причиной болезненных потерь и неурядиц. Она причинила им вред.
Вот, собственно, более-менее и все. Этот маленький ручеек питает труды Манро уже пятьдесят с лишним лет. Одни и те же ингредиенты возникают раз за разом, точно Клэр Куильти.[64] Однако именно неизменность исходного материала делает рост Манро как художника таким отчетливо зримым, таким захватывающим; свидетельство тому ее «Избранные рассказы» и, в еще большей степени, ее три последние книги. Поглядите, что она может сделать из одной лишь этой своей маленькой истории: при каждом ее возвращении к ней — все новые находки. Нет, она не гольфистка на тренировочной площадке. Она гимнастка в простом черном трико, своим одиночным выступлением на голом полу затмевающая всех романистов в ярких костюмах со всеми их хлыстами, слонами и тиграми.
«Сложности вещей — вещей внутри вещей — кажется, нет предела, — сказала Манро в интервью. — Нет ничего простого, ничего примитивного».
Она высказала фундаментальную аксиому литературы, лежащую в основе ее притягательности. Что касается меня, то не знаю уж, по какой причине — из-за того ли, что подолгу без перерыва читать не получается, из-за общего ли характера современной жизни с ее отвлечениями, с ее дробностью, а, скорее всего, потому, что интересных романов так мало, — я, когда мне хочется глотнуть настоящей литературы, хорошего, крепкого напитка, где есть и парадоксальность, и сложность, чаще всего нахожу то, что мне нужно, в короткой прозе. Помимо «Беглянки», самая увлекательная современная художественная проза, какую я читал за последние месяцы, — это рассказы Уоллеса из книги «Забвение» и ошеломляющий сборник британской писательницы Хелен Симпсон. Книга Симпсон, состоящая из своего рода комических выкриков на тему современного материнства, первоначально вышла под названием «Hey Yeah Right Get a Life» («Слушай, кончай дурью маяться»), не нуждающемся, казалось бы, в улучшении. Однако американская книжная индустрия взялась за его улучшение, и что же у нее получилось? «Getting a Life» («Обретение жизни»). Вспомните это тоскливое отглагольное существительное, когда в следующий раз услышите, как американский издатель сетует, что сборники рассказов плохо продаются.
7. Рассказы Манро еще труднее рецензировать, чем рассказы других авторов.
В большей мере, чем любой другой писатель после Чехова, Манро в каждом рассказе ищет и находит некую целостность, отражающую жизнь как таковую. Она всегда проявляла особый дар к тому, чтобы исподволь готовить и преподносить читателю моменты прозрения, просветления. Но в трех сборниках, вышедших после «Избранных рассказов» (1996), она показала, что совершила огромный скачок поистине мирового класса и стала мастером сюжетного напряжения, саспенса. Моменты, к которым она теперь нас подводит, — это не моменты постижения, а моменты судьбоносного, непоправимого, драматического действия. А для читателя это означает, что он не может даже начать догадываться о смысле рассказа, пока не проследил за каждым его поворотом, что полный свет всегда включается на одной-двух последних страницах.
При этом с ростом ее амбиций как рассказчицы неуклонно уменьшался ее интерес к бьющим в глаза эффектам. В ее ранних произведениях было много громкой риторики, эксцентрических подробностей, обращающих на себя внимание фраз (прочтите, например, ее рассказ 1977 года «Роскошные избиения»). Теперь, однако, ее рассказы напоминают классические трагедии, и дело тут не только в том, что у нее больше нет места ни для чего несущественного, но и в том, что она не вторгается в чистое повествование со своим писательским «я», ибо это резало бы слух, вредило бы настроению, шло бы вразрез с ее эстетическими и моральными принципами.
Читая Манро, я прихожу в состояние тихого размышления о своей собственной жизни: о решениях, которые принял, о том, что сделал и чего не сделал, о том, что я за человек, о грядущей смерти. Она из той горстки писателей — иные из них живы, но большинство умерли, — о которых я думаю, когда говорю, что художественная литература — моя религия. Ибо, пока я погружен в тот или иной рассказ Манро, я отношусь к абсолютно вымышленному персонажу с таким же серьезным уважением и тихим братским интересом, с каким отношусь к себе в лучшие минуты своего человеческого бытия.
Сюжетное напряжение и чистота повествования хороши для читателя, но рецензенту они создают трудности. Достоинства сборника «Беглянка» так велики, что я не буду о нем здесь говорить. Ни цитированием, ни кратким пересказом я не смогу воздать книге должное. Воздать ей должное можно, прочтя ее.
Исполняя свой рецензентский долг, я лучше сделаю вот что: поговорю о последнем рассказе из предыдущего сборника Манро «Hateship, Friendship, Courtship, Loveship, Marriage» («Ненависть, дружба, ухаживание, любовь, брак»), вышедшего в 2001 году. Начну с анонса из одной фразы: женщина, у которой довольно рано проявилась болезнь Альцгеймера, поступает в учреждение для неизлечимо больных, и когда после тридцатидневного периода адаптации к ней позволяют приехать мужу, она не проявляет к нему интереса, потому что у нее среди пациентов появился «бойфренд».
Неплохая предпосылка для рассказа. Но вот что, прежде всего, придает ему отчетливые черты прозы Манро: много лет назад, в шестидесятые и семидесятые, Грант, муж героини, часто ей изменял. И сейчас впервые старый изменник сам становится жертвой измены. Побуждает ли это Гранта в конце концов раскаяться? Отнюдь нет. Чем ему запомнилось то время его жизни — это «огромной полнотой бытия». Он никогда не чувствовал себя более живым, чем обманывая жену Фиону. Ему, конечно, тяжело сейчас видеть откровенные нежности между Фионой, теперь к нему равнодушной, и ее «бойфрендом». Но ему еще тяжелее, когда жена «бойфренда» забирает его из учреждения домой. Фиона подавлена, Грант делит с ней ее подавленность.
И тут-то начинаешь понимать, в чем проблема с краткими изложениями рассказов Манро. Пытаюсь продолжить свой пересказ. Грант едет к жене «бойфренда», чтобы попросить ее время от времени привозить мужа в учреждение и давать ему возможность видеться с Фионой. И вот когда становится ясно: все то многообещающее, что вначале казалось главными темами рассказа, — болезнь Альцгеймера, супружеская неверность, поздняя любовь — не более чем подготовка; грандиозная кульминационная сцена — это разговор между Грантом и женой «бойфренда». Жена отказывается позволить мужу встречаться с Фионой. Под практическими доводами, которые она приводит, чувствуется недоброе морализаторство.
И тут моя попытка краткого пересказа проваливается окончательно: я не могу даже подступиться к тому, чтобы объяснить вам, в чем грандиозность этой сцены, если у вас нет конкретного, живого представления об этих двух персонажах, о том, как они говорят и думают. Жена — ее зовут Мэриан — человек более ограниченный, чем Грант. Она живет в прекрасном пригородном доме, где поддерживает безукоризненную чистоту, но, если муж вернется в учреждение, дом придется продать, чтобы оплачивать его пребывание там. Дом — вот что ей важно, а не сердечные дела. У нее не было в жизни тех преимуществ, экономических и эмоциональных, какие были у Гранта, и эта ее явная непривилегированность побуждает Гранта по пути домой предаться классическим для прозы Манро размышлениям:
[Этот разговор] напомнил ему те разговоры, что ему доводилось вести в своей собственной семье. Его дядья, другие родственники и, вероятно, даже мать думали так же, как Мэриан. И считали, что если другие люди думают иначе, то потому, что сами себе задурили голову, что легкая, обеспеченная жизнь и университетское образование помешали им набраться ума, позволили витать в облаках. Они, мол, потеряли связь с реальностью — образованные люди, литераторы, некоторые богатые люди, как, например, социалистически настроенная родня Фионы. Потеряли связь с реальностью — кто из-за незаслуженно свалившегося богатства, кто по своей природной глупости…
Что за недоумок, думает она, должно быть, о нем сейчас.
Столкновения с такими людьми вызывали у него чувство безнадежности, вызывали злость и даже чуть ли не отчаяние. Почему? Потому, что он не мог быть уверен, что устоит против такого человека, останется верен себе? Потому, что боялся, как бы правота в конце концов не оказалась за ними?
Я обрываю цитату неохотно. Будь моя воля, я цитировал бы и дальше, и не маленькими кусочками, а целыми абзацами, ибо мой пересказ, как выясняется, требует, чтобы воздать этой истории должное — чтобы выявить всю сложность «вещей внутри вещей», все переплетение классовых и моральных представлений, чувственности и верности, характера и судьбы, — ровно того же, что сделала Манро, написав именно этот текст. Единственно адекватное изложение этого рассказа — сам рассказ.
Что возвращает меня к простому призыву, с которого я начал: читайте Манро! Читайте Манро!
Но я должен все-таки рассказать вам — не могу не рассказать, раз уж в это ввязался, — что, когда Грант после безуспешного визита к Мэриан приезжает домой, его ждет на автоответчике сообщение от Мэриан: приглашение на танцы в зал Королевского легиона.[65]
И еще: Грант уже до этого оценивающе вспоминал грудь и кожу Мэриан, и в воображении он уподобил ее не слишком аппетитному плоду китайской сливы: «Соблазнительность у мякоти есть, но странно искусственная, вкус и запах у нее химические, она скудно покрывает большую косточку».
И еще: несколько часов спустя, когда Грант все еще размышляет о женских достоинствах и недостатках Мэриан, телефон у него снова звонит и автоответчик записывает: «Грант, это Мэриан. Я была в подвале, клала в сушилку выстиранную одежду и услышала телефонный звонок, но, пока поднималась, повесили трубку. Я просто хочу сказать, что я здесь, на месте. На случай, если это были вы, если вообще вы дома».
И даже это еще не конец. Рассказ занимает сорок девять страниц — у Манро они способны вместить целую жизнь, — и впереди новый поворот. Но посмотрите, как много «вещей внутри вещей» нам уже продемонстрировал автор: Грант — любящий муж; Грант — изменник; Грант — муж до того верный, что занимается ради жены, по существу, сводничеством; Грант, презирающий заурядных домохозяек; Грант, сомневающийся в себе и допускающий, что заурядные домохозяйки, возможно, имеют основания презирать его. Однако именно второй звонок Мэриан в полной мере раскрывает перед нами писательский характер Манро. Невозможно вообразить себе этот звонок, считая морализаторство Мэриан таким уж возмутительным. Или считая распущенность Гранта такой уж постыдной. Нужна способность простить всех, не осудить никого. Иначе проглядишь то, вероятность чего низка, проглядишь диковинные возможности, вскрывающие жизнь до самой глубины: не исключено, к примеру, что Мэриан в ее одиночестве могла испытать влечение к глупому либералу.
И это всего лишь один рассказ. В «Беглянке» есть рассказы даже лучше этого — более смелые, более кровавые, более глубокие, с б?льшим охватом, — которые я буду счастлив таким же образом пересказать, как только выйдет следующий сборник Манро.
Хотя погодите, один крохотный взгляд внутрь «Беглянки». Что, если человек, которому либерализм Гранта — его безбожие, сибаритство, тщеславие, глупость — встает поперек горла, это не чужая несчастливая женщина, а его собственная дочь? Дочь, чей суд воспринимается как суд, который вершит вся окружающая культура, вся страна, испытывающая в последнее время тягу к абсолютам.
Что, если твоим великим даром этой дочери была личная свобода, а она, когда ей стукнуло двадцать один, использовала этот дар для того, чтобы повернуться к тебе и сказать: от твоей свободы, как и от тебя, меня тошнит?
8. Ненависть — вот что занимательно.
Это великая догадка экстремистов эпохи СМИ. Как иначе объяснить избрание на те или иные должности столь многих отвратительных фанатиков, утрату политической цивилизованности, возвышение телеканала «Фокс ньюс»? Вначале фундаменталист бен Ладен щедро одаряет Джорджа Буша ненавистью, затем Буш увеличивает эту ненависть за счет своего собственного фанатизма — и в результате полстраны верит, что Буш возглавляет крестовый поход против дьявола, а другая половина страны (как и б?льшая часть мира) считает дьяволом самого Буша. Почти каждый сегодня кого-нибудь ненавидит, и совсем нет таких, к кому никто не питал бы ненависти. Стоит мне подумать о политике, как мой пульс резко учащается, словно я читаю последнюю главу триллера или смотрю седьмой матч серии игр между «Сокс» и «Янкиз». Это развлечение-как-кошмар-как-повседневность.
Может ли замечательная литература спасти мир? Крохотная надежда всегда остается (порой происходят странные вещи), но почти наверняка ответ все же отрицательный. Есть, однако, не столь уж маленький шанс, что она сможет спасти твою душу. Если тебя огорчает ненависть, возникшая у тебя в сердце, ты мог бы попробовать представить себе, каково быть человеком, ненавидящим тебя; ты мог бы рассмотреть возможность того, что дьявол — это на самом деле ты сам; а если вообразить такое трудно, ты мог бы провести несколько вечеров с самой спорной канадской писательницей. В конце ее классического рассказа «Нищенка» главная героиня по имени Роуз в зале ожидания аэропорта случайно встречается с бывшим мужем и, увидев, какую отвратительную детскую гримасу он ей состроил, недоумевает:
Как же такое возможно — чтобы ее, Роуз, кто-либо так сильно ненавидел именно в ту минуту, когда она готова примирительно протянуть руку, улыбнуться, признаваясь, что злость в ней выдохлась, робко надеясь перевести все в цивилизованное русло?
Эта концовка обращена и к тебе, и ко мне прямо здесь, прямо сейчас.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
<ПОЛЬ ВАЛЕРИ О КРИТИКЕ. – «ДЬЯВОЛ» М. АРЦЫБАШЕВА>
<ПОЛЬ ВАЛЕРИ О КРИТИКЕ. – «ДЬЯВОЛ» М. АРЦЫБАШЕВА> 1.Поль Валери высказал недавно довольно неожиданное мнение о литературной критике. Он утверждает, что писатель не должен ни в коем случае писатель высказываться отрицательно о другом писателе, что это ни к чему не ведет
"ДЬЯВОЛ ВО ПЛОТИ" (Il diavolo in corpo) Италия — Франция, 1986.110 минут.
"ДЬЯВОЛ ВО ПЛОТИ" (Il diavolo in corpo) Италия — Франция, 1986.110 минут. Режиссер Марко Беллоккьо.В ролях: Марушка Детмерс, Федерико Питцалис, Анита Лауренци,Риккардо Де Торребруна.В - 1; М - 2; Т - 3; Дм - 4; Р - 2,5; Д - 2,5; К — 3. (0,493) Молодой студент Андреа влюбляется в красивую женщину Джулию,
Рука, сердце и дьявол
Рука, сердце и дьявол "Я люблю его", — сказала Царевна, и после сих слов карла показался народу почти красавцем. Карамзин Н.М. Прекрасная царевна и счастливый карла Истоки любовной коллизии отследить проще всего. Черные эльфы бывали сластолюбивы. Однажды в роли сказочной