Снова и снова Перечитывая роман Полы Фокс «В отчаянии»
Снова и снова
Перечитывая роман Полы Фокс «В отчаянии»
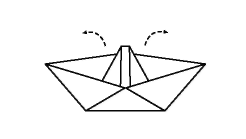
При первом чтении это роман, основанный на тревожном ожидании. Софи Бентвуд, сорокалетнюю жительницу Бруклина, укусил бродячий кот, которого она хотела напоить молоком, и последующие три дня она мучится вопросом: что принесет ей этот укус? Уколы в живот? Смерть от бешенства? Никаких последствий? Мотор книги — страх Софи, от которого ее прошибает холодный пот. Как и в более традиционных романах, где нагнетаются дурные предчувствия, ставка — жизнь и смерть, а вдобавок — судьба Свободного Мира. Софи и ее муж Отто — первопроходцы из среднего класса, поселившиеся в неблагополучном районе в конце шестидесятых, когда цивилизация в ведущем городе Свободного Мира, казалось, рушилась под грузом мусора, блевотины, кала, под натиском вандализма, мошенничества и классовой ненависти. Чарли Рассел, давний друг и партнер Отто по юридической фирме, уходит из фирмы и свирепо критикует Отто за консерватизм. «Хотелось бы, чтобы кто-нибудь мне объяснил, как мне жить», — говорит Отто. Что касается Софи, она колеблется между ужасом и странным разочарованием при мысли, что она, возможно, не заразилась. Ее пугают мучения, которых она не уверена, что не заслужила. Она цепляется за мир привилегий, хоть он и душит ее.
Между тем, страница за страницей, проза Полы Фокс радует и восхищает. Ее фразы — маленькие чудеса сжатости и конкретности, крохотные романы сами по себе. Вот как описан момент укуса:
Она улыбнулась, задаваясь вопросом, как часто, если хоть раз вообще, до кота дотрагивалась дружеская человеческая рука, и она еще улыбалась, когда кот встал на задние лапы и даже когда он ударил ее выпущенными когтями, улыбалась вплоть до того мгновения, как он впился зубами в ее левую кисть с тыльной стороны и повис на ее плоти, так что она едва не упала вперед в ошеломлении и ужасе, но помня о присутствии Отто в достаточной мере, чтобы приглушить крик, рвавшийся из ее горла, когда она выдергивала руку из этого кольца, будто сделанного из колючей проволоки.
Передавая драматизм момента через последовательность движений — да просто проявляя зоркость, внимательность, — Фокс находит здесь место для всего, из чего складывается сложность Софи: для ее либерализма, склонности к самообольщению, незащищенности и, самое главное, для ее супружеской ответственности. «В отчаянии» — редкий пример романа, отдающего должное обеим сторонам брака — ненависти и любви, ей и ему. Отто — мужчина, который любит свою жену. Софи — женщина, которая в понедельник в шесть утра опрокидывает рюмку виски и, «издавая громкие детские звуки отвращения», смывает то, что находится в кухонной раковине. Отто хватает глупости сказать Чарли, когда он уходит из фирмы: «Скатертью дорожка»; Софи хватает глупости позднее спросить его, зачем он так сказал; Отто обижает этот вопрос; Софи обижает его обида.
Первый раз я прочел «В отчаянии» в 1991 году — прочел и влюбился в этот роман. Мне было очевидно, что он превосходит все романы современников Фокс: Джона Апдайка, Филипа Рота, Сола Беллоу. Мне было очевидно, что это великая книга, и несколько месяцев спустя, хотя обычно я с этим не тороплюсь, я ее перечитал. В браке Бентвудов я увидел нечто общее с моим собственным неблагополучным браком; в романе проглядывала мысль, что страх перед страданиями более разрушителен, чем сами страдания, и я очень хотел этому верить. Я верил, что книга, когда я прочту ее повторно, подскажет мне, как жить.
Этого не случилось. Книга, если уж на то пошло, стала более таинственной — стала не столько уроком, сколько переживанием. Плавно выступили, как образы на случайно-точечной автостереограмме,[70] невидимые ранее метафорические и тематические уплотнения. Мой взгляд упал, к примеру, на фразу, описывающую гостиную в рассветные сумерки: «Предметы, их очертания, отвердевая в прибывающем свете, приобретали мрачный, угрожающий вид тотемов». В прибывающем свете моего второго чтения все предметы в книге отвердевали подобным образом у меня перед глазами. Куриная печень, к примеру, возникает в первом же абзаце как деликатес и центральный элемент культурного ужина — как квинтэссенция цивилизации Старого Света. («Берешь сырой материал и преображаешь его, — замечает позднее левак Леон. — Это и есть цивилизация».) Именно запах печенки, насыщенный, богатый запах, и привлек в первый раз к задней двери Бентвудов злополучного кота. Сто страниц спустя, после того как кот укусил Софи («идиотский случай»), они с Отто решили нанести ответный удар. Они теперь в джунглях, и остатки куриной печени должны стать приманкой, которая поможет им поймать и убить дикое животное. Приготовленная еда — по-прежнему квинтэссенция цивилизации; но насколько же более жестокой цивилизация теперь оказывается! В книге есть и другая кухонная линия: субботним утром потрясенная Софи, желая себя подбодрить, решает купить что-нибудь для готовки. Она идет в «Провансальский базар» за омлетной сковородой, которая должна помочь ей осуществить свою «грезу о домашности», свою мечту о французской непринужденности и культуре. Эпизод кончается тем, что жутковатая продавщица с волосатым подбородком вскидывает руки, «словно обороняясь от ведьмы», и Софи испуганно убегает с покупкой смехотворно неподходящей, ярко символизирующей ее отчаяние: с песочными часами для варки яиц.
Хотя рука Софи в этой сцене кровоточит, ее первое побуждение — отрицать, что с кистью что-то не так. Когда я в третий раз читал «В отчаянии», чтобы разобрать книгу со своими студентами, я стал более внимателен к подобным отрицаниям, к ее попыткам успокоить себя. Софи делает их практически беспрерывно: «Все в порядке», «Ничего страшного», «Да нет, ничего страшного», «Да не говори ты мне об этом», «КОТ НИЧЕМ НЕ БОЛЕН!», «Это укус, всего лишь укус!», «Я не побегу в больницу с такими глупостями», «Ничего страшного», «Уже намного лучше», «Пустяковая рана». Эти повторяющиеся отрицания, в которых сквозит отчаяние, отражают внутреннее устройство книги: Софи бежит из одного возможного убежища в другое, из другого в третье, но ни одно из них ее не защищает. Она идет на вечеринку с Отто, ускользает тайком с Чарли ради «незаконных ощущений», покупает себе подарок, ищет успокоения у старых друзей, пытается обратиться к жене Чарли, звонит своему прежнему возлюбленному, соглашается поехать в больницу, ловит кота, делает себе «страусиное гнездо» из подушек, пытается читать французский роман, сбегает в свой любимый сельский дом, хочет перебраться в другой часовой пояс, думает об усыновлении ребенка, губит старую дружбу… Ничто не приносит облегчения. Ее последняя надежда — написать об укусе матери, взяв этим письмом «ноту, точно рассчитанную на то, чтобы и развеселить старушку, и возбудить в ней презрение»; иначе говоря, она хочет претворить свою беду в искусство. Но Отто швыряет ее чернильницу об стену.
От чего пытается убежать Софи? Читая «В отчаянии» в четвертый раз, я надеялся получить ответ. Я хотел понять наконец, счастье это или несчастье для Бентвудов — то, что на последней странице книги их жизнь взламывается, распахивается. Я хотел добраться до сути финальной сцены. Но я так до нее и не добрался, и мне пришлось искать убежища в мысли, что хорошая литература «трагична»: она не предлагает ни простых идеологических ответов, ни терапии посредством культуры, ни приятных, дающих облегчение грез, какие исходят от индустрии развлечений. Меня поразило сходство Софи с Гамлетом — с персонажем, склонным к болезненному самокопанию, который получает весть, чрезвычайно неприятную и вместе с тем не вполне ясную (ее сообщает ему призрак), проходит через мучительные извивы мысли, пытаясь понять, что эта весть значит, и наконец отдает себя на волю божественного провидения и принимает свою судьбу. Для Софи Бентвуд «неясная весть» — это не сообщение из потустороннего мира, а вполне конкретный кошачий укус; вся неясность внутри самой Софи: «Это только рука, твердила она себе, но все равно ей казалось, что затронуто все тело, как именно — она не могла понять. Словно она была смертельно ранена». Извивы мысли, которые за этим следуют, порождены не ее неуверенностью, а ее нежеланием взглянуть в лицо правде. Ближе к концу книги, когда она, обращаясь к божеству, говорит: «Господи, если я заражена бешенством, я совпадаю с тем, что снаружи, что вне меня», это не откровение. Это «облегчение».
То, что книга, пусть ненадолго, исчезла из продажи, может стать испытанием для любви даже самого преданного из читателей. Примерно так же как мужчина может сожалеть о кое-каких сомнительных черточках, уменьшающих красоту его жены, или женщина может желать, чтобы муж не так громко хохотал над своими собственными шутками, хотя шутки и правда очень смешные, я испытывал боль из-за крохотных несовершенств, способных отвратить потенциальных читателей от этого романа. Я размышляю о деревянном и безличном характере вступительного абзаца, о безыскусной первой фразе, о скрипучем слове «трапеза»; любя книгу, я теперь ценю статичный формализм этого абзаца, готовящий резкую, короткую реплику, которая идет за ним: «Кот опять здесь»; но что, если читатель не пойдет дальше «трапезы»? Не исключаю также, что имя Отто Бентвуд может создавать трудности при первом чтении. Фокс обычно заставляет имена и фамилии персонажей работать вовсю: «Рассел», к примеру, изящно отражает беспокойную (restless), скрытную натуру Чарли, которого Отто подозревает в переманивании (rustling) клиентов; и подобно тому как на конце фамилии Чарли недостает второго «л», чего-то явно недостает в его характере. Меня восхищает то, как бремя старомодного и в определенной мере тевтонского имени Отто соответствует бремени навязчивой тяги к порядку, которое несет этот персонаж; однако фамилия Бентвуд даже после многих чтений остается для меня чуточку искусственной и продолжает ассоциироваться с бонсай.[71] Немного смущает и название книги. Оно, безусловно, уместное, и все же это не «День саранчи», не «Великий Гэтсби» и не «Авессалом, Авессалом!». Такое название человек может забыть или перепутать с другими названиями. Порой, желая, чтобы оно было посильнее, я чувствую специфическое одиночество человека, глубоко увязшего в супружестве.
Годы шли и шли, и я продолжал окунаться в книгу, ища уюта или успокоения в красоте знакомых фрагментов. Но сейчас, перечитывая ее ради этого предисловия, я был поражен тем, сколь многое в ней для меня свежо и ново. Раньше, к примеру, я не обращал особого внимания на историю, которую Отто рассказывает ближе к концу книги, про Синтию Корнфелд и ее мужа, художника-анархиста; салат из желе и пятицентовиков, приготовленный Синтией Корнфелд, пародирует отождествление Бентвудами еды с привилегиями и цивилизацией, а идея переделки пишущих машинок с тем, чтобы они печатали чепуху, тонко предвосхищает заключительный образ романа. История эта подчеркивает, что «В отчаянии» нужно читать в контексте тех разновидностей современного изобразительного искусства, чья цель — разрушение порядка и смысла. А еще Чарли Рассел — видел ли я его по-настоящему до сей поры? Во время предыдущих чтений он неизменно казался мне типовым злодеем, хамелеоном, клейма ставить негде. Теперь, однако, я считаю его почти таким же важным персонажем, как кот. Он единственный друг Отто, его телефонный звонок провоцирует финальный кризис, он произносит цитату из Торо, которая дает книге название, и он выносит о Бентвудах зловещее и безошибочное суждение: «кошмарно порабощены самоанализом, а между тем под ними взрывается фундамент их привилегий».
Я не уверен, однако, что на нынешнем позднем этапе мне так уж нужны свежие наблюдения. Одна из опасностей, подстерегающих долгие браки, состоит в мучительной доскональности, с которой вы знаете предмет своей любви. Подобно тому как страдают от знания друг друга Софи и Отто, я сейчас страдаю от досконального знания этого романа. Мои подчеркивания в тексте и пометки на полях выходят из-под контроля. При последнем чтении я обнаружил и отметил как существенные и центральные огромное количество не отмеченных ранее образов, имеющих отношение к порядку и хаосу, к детству и взрослым годам. И поскольку книга недлинная, а прочел я ее уже полдюжины раз, не за горами, кажется, момент, когда каждая фраза будет мною выделена как существенная и центральная. Это необычайное богатство свидетельствует, конечно, об огромном таланте Полы Фокс. В книге трудно найти даже одно лишнее или случайное слово. Подобная точность и подобная тематическая плотность не возникают просто так, но добиться их, сохраняя непринужденность обращения с материалом, достаточную для того, чтобы персонажи вышли живые и роман мог быть написан, — задача почти невыполнимая; однако вот он перед нами, этот роман, превосходящий всю иную американскую реалистическую художественную литературу после Второй мировой войны.
Богатство романа, впрочем, может сыграть с читателем шутку: чем лучше я понимаю значение каждой отдельной фразы, тем труднее мне объяснить, какому грандиозному, глобальному смыслу могут быть подчинены все эти локальные смыслы. В смысловой перегрузке есть, в конце концов, свой особый ужас. Она, как намекает Мелвилл в главе «О белизне кита» романа «Моби Дик», сродни полному отсутствию смысла. Не случайно она, помимо прочего, считается одним из главных симптомов болезненных психических состояний. Людей, страдающих маниями, шизофренией или депрессией, зачастую мучит уверенность, будто абсолютно все в их жизни нагружено смыслами, — уверенность, порой приводящая к тому, что отслеживание, расшифровка и систематизация этих смыслов отодвигает для них на второй план жизнь как таковую. В случае Отто и, особенно, в случае Софи (которую два врача независимо друг от друга уговаривают полечиться у психиатра) переизбытком смыслов подавлен не только читатель. Сами Бентвуды — люди высокообразованные, в высшей степени современные. Они очень хорошо — и в этом их беда — оснащены для того, чтобы читать себя как литературные тексты, насыщенные взаимоперекликающимися смыслами. За время одного уикенда на исходе зимы они постепенно отдают себя во власть унынию, под конец доходящему до абсолютной подавленности, из-за того что совершенно случайные слова и крохотные происшествия истолковывают как «предвестья». Огромное напряжение тревожного ожидания возникает в книге не только из-за страха Софи, не только из-за того, что Фокс один за другим перекрывает все возможные пути к спасению, и не только из-за того, что супружеский кризис соотносится с кризисом делового партнерства и с кризисом американской городской жизни. В еще большей степени оно, я думаю, связано с медленным, неуклонным подъемом тяжкой, сминающей волны литературных смыслов и толкований. Софи осознанно и недвусмысленно использует бешенство как метафору своих эмоциональных и политических бед; Отто в своей последней реплике, хоть он и сорвался, хоть он и кричит о своем отчаянии, не может удержаться от того, чтобы не «процитировать» (в постмодернистском смысле) свой более ранний разговор с Софи о Торо и не вызвать тем самым к жизни все иные темы и разговоры этого уикенда, и в особенности рассуждения Чарли об отчаянии. Ведь насколько хуже, чем просто быть в отчаянии, быть в отчаянии и в то же время держать в уме связанные с этим личным отчаянием жизненно важные вопросы о сохранении в обществе законного порядка, о привилегиях, о воззрениях Торо, а еще чувствовать, что своим срывом ты доказываешь правоту Чарли Рассела, хоть и знаешь в глубине души, что он не прав! Когда Софи заявляет, что хочет заболеть бешенством, когда Отто швыряет чернильницу о стену, они оба, похоже, бунтуют против невыносимого, почти убийственного ощущения значимости их слов и мыслей. Неудивительно, что последние действия героев словами не сопровождаются, что Софи и Отто «перестали слушать» поток слов из телефонной трубки, что «надпись» чернилами, к которой они, желая ее прочесть, медленно поворачивают головы, — это безумная, бессловесная клякса. Едва Фокс с блистательным успехом сумела отыскать порядок в бессобытийности одного уикенда на исходе зимы, как она — великолепным жестом! — этот порядок отвергла.
«В отчаянии» — это роман, бунтующий против своего же совершенства. Вопросы, которые он поднимает, радикальны и неприятны. Зачем нужен смысл — в особенности смысл литературный — в современном мире, зараженном бешенством? Зачем стараться, создавая и сохраняя порядок, если цивилизация ровно настолько же убийственна, как анархия, которой она противостоит? Зачем беречься от бешенства? Зачем мучить себя книгами? Перечитывая роман по шестому или седьмому разу, я чувствую, как во мне поднимаются гнев и досада на его тайны, на парадоксы цивилизации и на несовершенство моего мозга, и вдруг ни с того ни с сего до меня доходит концовка, я чувствую то, что чувствует Отто Бентвуд, разбивая чернильницу о стену; и внезапно меня снова охватывает любовь.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
«Признаю, по-старому – и снова…»
«Признаю, по-старому – и снова…» Признаю, по-старому – и снова (Только Вы не слышите сейчас): Я люблю другое и другого, Оттого что сердце любит Вас. Я люблю старинные флаконы, Кактусы, камины и ковры, Строгой математики законы И законы карточной игры. В ресторанах –
111. «И снова бродит даль. И снова…»
111. «И снова бродит даль. И снова…» И снова бродит даль. И снова Пустым фургоном у ворот, Под знаком дня очередного, Приемлет день свой груз забот. Но девушка поет иная, Не та, что отцвела вчера. Кручинных птиц иная стая С могильного летит бугра. И облака встают не те
III. «…И снова Пятница страстная…»
III. «…И снова Пятница страстная…» …И снова Пятница страстная. В весеннем небе год смыкает круг. И главное не то, что было за год, А то, что вновь стою у Плащаницы, И в чаще свеч горит моя свеча. Под скорбные и сладостные звуки, Протяжное взыванье «Святый Боже» Выходим из
И снова Фрейд
И снова Фрейд В 1926 году Фрейд отмечал свое семидесятилетие в компании старых друзей: Макса Айтингона, Шандора Ференци и Эрнеста Джонса. Они засиделись допоздна, а Фрейд все говорил и говорил о том, был ли граф Оксфорд истинным автором пьес Шекспира. Джонс позже вспоминал,
Глава 4 Снова Лондон
Глава 4 Снова Лондон Следующий раз жизненные пути Чуковского и Жаботинского пересеклись в Лондоне в 1916 году. К этому моменту их роли существенно переменились, Чуковский был известный критик кадетской газеты «Речь» и в Англию прибыл в составе делегации вместе с
Об эпиграфах снова
Об эпиграфах снова Сумароков описывал Пугачева в «Стансах городу Симбирску», напечатанных в IX томе собрания сочинений Сумарокова (2-е изд., 1787 г., стр. 95): Рожденна тварь сия на свет бессильной выдрой; Но ядом напоясь, который рыжет Нил, Сравняться он хотел со баснословной
Карапузы снова в деле
Карапузы снова в деле 19.12.2007С мест сообщают: Американский кинорежиссер Питер Джексон, снявший кинотрилогию «Властелин колец», станет продюсером двух новых фильмов по роману Джона Толкиена «Хоббит», сообщает Reuters. Соответствующее соглашение было заключено между П.
Русские деньги снова в цене
Русские деньги снова в цене «Русские деньги» — так называется новый фильм режиссера Игоря Масленникова, создателя сериала о Шерлоке Холмсе. Он задумал экранизировать под этим названием несколько классических комедий Островского, и первой стала никогда за сто пятьдесят