Предисловие
Предисловие
Никто еще не отгадал загадки Гоголя. Эта загадка не выдумана, не придумана. Она существует. Гоголь, как на памятнике работы Н. Андреева, то отдаляется от нас, то приближается, точней, то отдаляет, то приближает нас к себе его взгляд, его улыбка. Они странны, неопределенны. Они направлены на зрителя и, вместе с тем, уклончивы. Гоголь как бы зовет, подзывает, а когда подходишь, отводит глаза.
То же и смех Гоголя. С одной стороны, Гоголь смеется над глупым, смешным и страшным — да, и над страшным, например, над смертью, — с другой стороны, его смех полон печали: то печаль несоответствия между «мечтой» и «существенностью».
Смех Гоголя ощущает это несоответствие как комическое противоречие жизни и одновременно как боль. Рана открыта, кровоточит: отсюда слезы.
Гоголь начал с творений мрачно-возвышенных, с подражаний немецким романтикам и Жуковскому. Эти творения, как он признавался, были все «в серьезном роде». Но затем смех как бы сбросил со слова Гоголя тяжелый покров. Явилась веселость, явилась радость, против готического собора вырос «вертеп»[1].
Гоголь — дитя книжной культуры и дитя народного юмора, смеховой культуры народа, как сказал бы М. Бахтин. Восемнадцатый век со вспышками одического величия, со слогом Державина и школа Шиллера и Гофмана чувствуются в Гоголе. Полет книжной речи мешается в его прозе с грубой шуткой простолюдина, с лукавством украинского «дядьки», с «раем» и «адом» народного представления, где человек и черт выступают как герои одной пьесы.
Черт у Гоголя смешон, а человек бывает и страшен. У человека могут внезапно выскочить клыки, как у колдуна из «Страшной мести», а черт может быть подвергнут порке, как — напроказивший мальчишка.
Черта можно пороть, на черте можно ездить верхом, черта можно дурачить — человек во сне видит такую правду о себе, о которой он не смеет и думать при свете дня.
Смех Гоголя универсален — он охватывает все проявления человеческой души начиная от низких и кончая высокими: низкое и высокое не противостоят друг другу, а переливаются одно в другое, создавая тот отсвет алмаза, в глубине которого всегда остается тайна.
Гоголя числят в сатириках, комиках. Он считал себя поэтом. Он добивался того, чтоб сказать все о человеке, тронуть его со всех сторон, как хотел он показать со всех сторон Россию, а может быть, и весь мир. Уроки Гоголя — уроки святой максимы, святого завышения целей, которые ставят перед собой гении и неосуществление которых заставляет их роптать на себя.
Мы часто спрашиваем себя, отчего гении недовольны собою, отчего они пересматривают свои взгляды, влекутся к новым, страдают от этого, уходят в потемки, а то и совсем уходят, не найдя в себе сил разрешить мучающий их вопрос. Блуждания гения — блуждания жажды совершенства, блуждания на пути к идеалу, который они с небес хотят низвести на землю. Святые попытки гения — явить этот идеал во плоти.
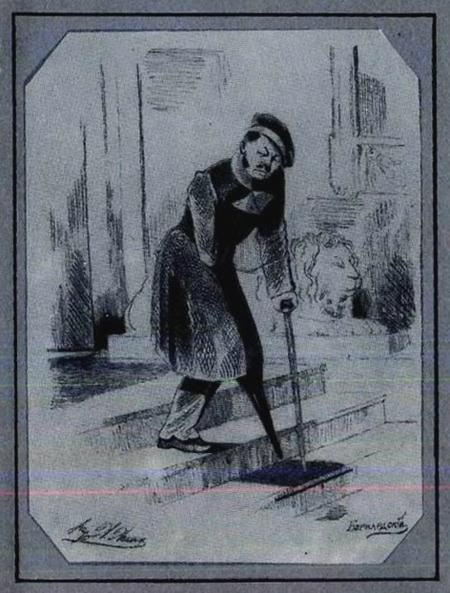
Жизнь Гоголя полна этих минут неудовольствия, досады на себя, самоосуждения. Признавая искусство «первым» в своей жизни, а все прочее «вторым», он готов был и его оставить ради того, чтоб хотя бы что-нибудь изменить в своем отечестве. Он не раз говорил, что не может писать «мимо себя». Строюсь я, добавлял он, строится и сочинение, нейду я, стоит и оно. Это черта чисто русская, черта русской литературы, которая более, чем какая-либо из литератур, связывала слово с делом, не отделяла слова от дела и рассматривала голос свой как деяние, как влияние, как участие.
«Русь! чего же ты хочешь от меня?.. Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?..» Все это отдает пророчеством, витийством. Но русская литература — пророческая литература. В ней история «горит», книги ее пишутся огненными словами — не мастер, не ремесленник русский писатель, а вития, невольник чести, невольник совести. Одно ремесло, одна техника для русского писателя еще не творчество. В высшие цели совершенствования входят не только отделка и переделка, невидимые слезы над листом бумаги, противоборство со словом и укрощение его, но и страдание по поводу чужого страдания, забвенье искусства во имя отклика на чью-то боль.
Отклик — мечта смеха Гоголя. Он не может звучать в пустоте. Если, как говорил Гоголь, струны души дрожат, то они — в ответ — должны дрожать и у читателя. Нет смеха ради смеха, смех «озабочен» идеей — хотя он и пародия на многие из идей.
Гоголь пародирует все — идеи, исторических деятелей, литературу. Его смех начинает с отталкивания, с утверждения своей непричастности к общепринятым величинам, знамениям, авторитетам.
Гоголь смеется над идеей брака и идеей «золотого века», но тем не менее его смех жаждет и любви, и «астреи». Слушая разглагольствования Утешительного (плута и карточного вора), Глов (такой же плут) говорит: «Ну что, если б у нас в России было побольше таких, которые бы так мудро рассуждали? Господи ты боже мой, что бы это было: просто золотой век, астрея».
Плут дурачит плута, одураченный плут дурачит, в свою очередь, другого плута, и в конце пьесы (речь идет об «Игроках») получается, что ни на одного из них нет закона.
Закон как юридическая категория не властен над глупостью, над жадностью, над самолюбием.
Суд, судопроизводство и идея тяжбы выставляются в позорном виде в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Тяжба затягивается на годы, на век. Она неразрешима, ее невозможно распутать, потому что страсти, ее вызвавшие, не уничтожимы.
Смех Гоголя социален, и вместе с тем он вечен, ибо несоответствие между мечтой и существенностью — противоречие жизни, которое не принадлежит какой-то одной эпохе. С одной стороны, смех Гоголя конкретен и имеет исторический адрес, с другой — Гоголь ставит объекты своего пародирования — по образцу греческих скульптур — на пьедестал вечности.
В мире Гоголя нет смерти — добро и зло встречаются за смертным порогом (вспомним «Страшную месть») — и нет иерархии. Как бы оспаривая идею истории, высказанную в бессмертном труде Н. М. Карамзина «История Государства Российского», где история государства, а стало быть, и личностей, причастных к делам государства, затемняет историю людей, Гоголь вводит в историю башмачкиных, поприщиных, ковалевых, чичиковых, хлестаковых, петрушек, селифанов. Русь врывается на скрижали летописей во всем своем разнородном облике, со смешными и величавыми своими сторонами, которые мешаются в одном человеке, в одном герое. Даже Бульба, как писал Белинский, бывает у Гоголя смешон, даже в трагические мгновения казни Остапа находится кто-то в толпе, кто, по выражению Гоголя, ковыряет пальцем в носу.
О, смех! Это игра Гоголя, которая покрывает скуку и тоску жизни, вызывает наверх ее дремлющие искры, раздувает их в пламя. «В игре нет лицеприятия», в игре «заигрываются», «жаркая игра» «возносится», как пишет Гоголь, она собирает людей для «подвигов». Ею насыщается «жажда деятельности», а без игры — «скука, скука смертная»!
Но если игра в карты — обман, оставляющий всех после окончанья игры голыми, с одними бумажками в руках (из-за бумажек — из-за денег — и идет игра), то смех Гоголя возвышает: он погибшему дает шанс воскреснуть.
«Страшно, — рассуждает в последние минуты перед свадьбой Подколесин, — как хорошенько подумаешь об этом. На всю жизнь, на весь век, как бы то ни было, связать себя и уж после ни отговорки, ни раскаянья, ничего — все кончено, все сделано».
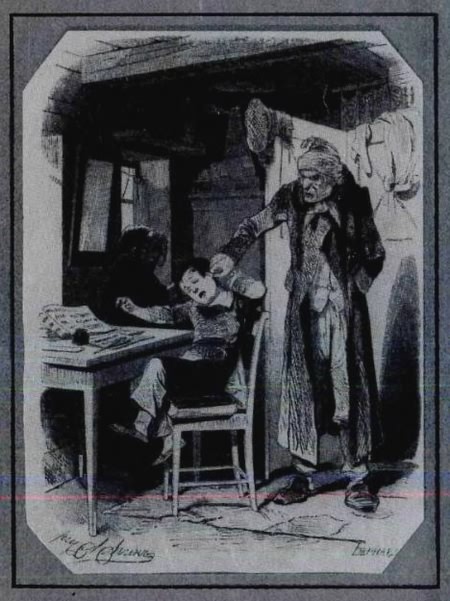
Вот что страшит его: «на всю жизнь», «на весь век». И этот надворный советник, которого сваха зовет «дворовым советником», который каждый день ходит в свою экспедицию мимо одних и тех же домов и страшно гордится, что у него черный фрак, а не цветной, как у секретарей, титулярных и остальной «мелюзги», мечтает о чем-то таком, что дало бы ему счастье навек. И у него есть свои понятия о вечности. Но он не хотел бы, чтоб эта вечность была вечная кабала.
Герои Гоголя мечтают о свободе — они не хотели бы оказаться под колесом судьбы, не хотели бы быть затоптанными в грязь, не хотели бы выпасть в тот пыльный «осадок», со дна которого уже не подняться вверх.
С одной стороны, Подколесин — байбак, лежебока, которому лень жениться, и он уже развращен этой ленью, тем, что он ничего не делает и может всю жизнь ничего не делать (на это есть слуга Степан и крепостные), с другой — он человек, который имеет право сомневаться в том, что его идеал, по крайней мере идеал семейной жизни, никогда не явится ему во плоти.
Хотя именно о плоти и плотском все время говорится в «Женитьбе». И невеста здесь сладка, как «рафинат», и женихи, подглядывая за ней в щелку, когда она переодевается, видят что-то белое, похожее на подушку, и движимость-недвижимость, которую дают за Агафьей Тихоновной, можно пощупать руками.
Мечта и жизнь соперничают на весах судьбы, меняются, местами: то жизнь переодевается в мечту, то мечта сбрасывает свой яркий плащ к ногам жизни. И всякий раз эти метаморфозы вызывают улыбку Гоголя — то грустную, то язвительно-разочарованную, то вновь поднимающую человека из праха.
Смех Гоголя способен разъять, разложить предмет или даже лицо, как делает он это с лицом майора Ковалева, но он не патологоанатом: и нос Ковалева возвращается на свое место, и рассыпавшийся на куски мир соединяется вновь, и распавшаяся; кажется, на части жизнь опять смотрится как целое.
Струна может замереть, замолчать, но она струна — тронь ее только, прикоснись к ней с любовью, и она отзовется, она вспомнит хранящийся в ее натянутой жиле звук.
Смех светел — сказал Гоголь в «Театральном разъезде», навсегда отведя подозрения в том, что его смех — темен.
У каждого человека есть окно матери — окно детства, пусть это даже занесенное снегом мутное окно, как у Чичикова. Но и Чичиков способен вспомнить о нем, вернуться к нему мыслями и душой и тем же «слабым криком души» возопить: «Брат, спаси!» Есть люди гибнущие, но нет людей погибших, считает Гоголь. Светлый смех его должен помочь им встать, восстать, оглянуться, вернуться.
«Ум идет вперед, когда идут вперед все нравственные силы в человеке», — провозгласил в своих статьях Гоголь. Он писал о «гордости чистотой своей», о «гордости ума», о распрях ума, которые грозят девятнадцатому веку еще большим раздроблением. Он предупреждал его о том, о чем в полный голос заговорили потом Достоевский и Толстой.
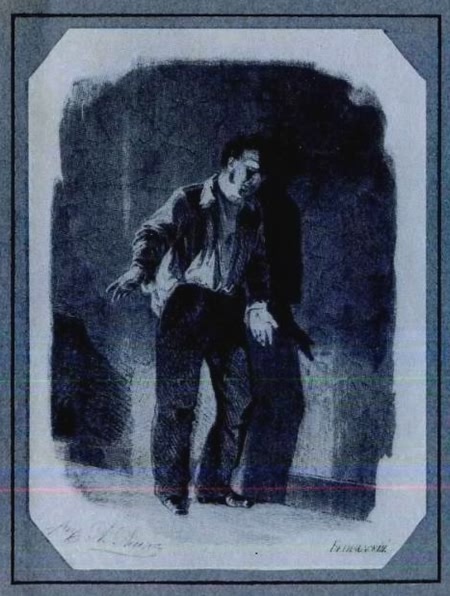
Выход за пределы круга искусства не сломил Гоголя. Уединившись в доме на Никитском бульваре, он вновь взялся за свое художество. Он выстаивал перед своей конторкой (писал он стоя) каждое утро, и погибший, казалось бы, для читателя второй том поэмы стал выстраиваться заново, обрастая колоннами, этажами, готовясь быть подведенным под крышу. Он строил не просто дом, а «прекрасный храм» на русской почве, в последний раз решив бросить вызов «действительности» — вызов от имени «мечты».
Все годы жизни Гоголя — это уроки труда. Когда я пишу, я живу, говорил он, если я перестану писать, я умру. «Мне нет дела до того, — писал он в 1847 году А. А. Иванову (тоже прикованному кандалами к своей картине), — кончу ли я свою картину или смерть меня застанет на самом труде; я должен до последней минуты своей работать… Если бы моя картина погибла или сгорела перед моими глазами, я должен быть также покоен, как если бы она существовала, потому что я не зевал, я трудился…» Переписывание по восьми раз — хрестоматийные сведения о Гоголе. Перемарыванье страниц и глав, сожжение целых частей — тоже факты известные. Этот самосуд жесток, но он самосуд человека, который способен не только восстановить написанное, но и построить все заново — да так, что ничто не будет знакомо искушенному взору, что поистине новым представится ему то, что уже, кажется, он знал наизусть, к чему привык, на что насмотрелся.
Так было с С. Т. Аксаковым, когда Гоголь читал ему обновленные главы второго тома «Мертвых душ», — старик ахнул, покаялся, что имел грех усомниться в гении Гоголя.
Гоголь любил повторять, что в храм искусства нельзя входить неопрятно одетым. И он входил под его своды с чистой душой и чистыми листами отделанных до белизны беловиков, к которым никто, и в том числе он сам, уже не мог приложить руку. А если и случалось, что в молодости он спешил, торопился выдать в свет необработанное (как было с «Арабесками» и «Тарасом Бульбой»), то потом садился и переписывал от строки до строки, пока глаз, ухо и сердце не провозглашали хором: конец. Так было и с «Бульбою», и с «Ревизором». «Ревизор», в сущности, писался шесть лет, хотя сначала был выдан «единым духом», «Портрет» и того более, второй том поэмы до рокового сожжения уже побывал в огне. Оттого и создания Гоголя — истинные создания, строения совершеннейшей архитектуры, напоминающие римскую незыблемую вечность. Вспомните сад Плюшкина — это и русский сад, сад средней полосы России, и как бы усыпленный в своем величии римский форум, с остатками его колонн, арок и вьющейся вокруг мрамора зеленью. А перечитайте «Копейкина» — эту поэму в поэме, чудо прямой речи у Гоголя, русского застольного рассказа, илиаду русского разбойника!
Что там «Копейкин» — Гоголь Державина по нескольку раз переписывал, хотя были у него в библиотеке все сочинения Державина, — набело переносил собственным почерком в свои тетради, чтоб только привыкло перо к его мерно текущей речи, к его величественным периодам, к грому и водопаду его «парящего» косноязычия. Переписывал и Пушкина, и Лермонтова, и Баратынского. И святых отцов церкви.
Учился. Тренировал руку и слух и напев подхватывал, призыв принимал, слал его дальше.
Оттого и поются его собственные строки, выпеваются из души, от души идя, к душе и приходят. И громозвучное слово порождает громозвучное эхо, проносясь через нас и над нашими головами.
Поклонимся за это Гоголю и примем уроки его с благодарностью.
1975–1985
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Предисловие
Предисловие Пользуясь уже собственной традицией и экономя время читателя и свое собственное, я не стал писать ко второй книге серии (так же как и к первой) отдельного предисловия, и использовал вместо него фрагмент из текста. А так как жизнь наша все ускоряется и времени —
Предисловие
Предисловие Пожалуй, нет ни одной отрасли права, положения которой отображались бы в художественной литературе так ярко, как положения права уголовного. Извечная проблема преступления и наказания находит отражение на страницах и бульварных романов, и детективных
Предисловие
Предисловие Курс Введения в славянскую филологию, изложению которого посвящено данное пособие, читается в высших учебных заведениях нашей страны с 1974 г. После его утверждения Министерством высшего образования СССР преподаватели, которым поручили его чтение в
Предисловие
Предисловие Это прекрасно не потому, Что это стих и ошибок нет, Это прекрасно потому, Что это сказал поэт. Д. А. Пригов Содержание этой книги основано на трех убеждениях.Во-первых, поэты — самые внимательные к языку люди. И профессиональным филологам есть чему у них
Предисловие
Предисловие К настоящему моменту существует достаточное количество работ, посвященных жизни и творчеству Б. Пастернака. Творчество Пастернака становилось также организующей темой многих научных конференций и сопутствующих им сборников. Все, что уже сделано и
Предисловие
Предисловие Тема монографии – «Философия слова и поэтическая семантика Осипа Мандельштама». Ее актуальность обусловлена самим ракурсом исследования: творчество Мандельштама достаточно полно изучено в идейно-философском (С. Марголина, Н. Струве, С. Бройд, В. Мусатов, О.
ПРЕДИСЛОВИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ Стивен Прессфилд написал «Войну за креатив» специально для меня. Для вас, конечно, тоже, но я уверен, что в первую очередь все-таки для меня, потому что я олимпийский чемпион по откладыванию дел в долгий ящик. Я могу откладывать размышления даже о моей проблеме
Предисловие[93]
Предисловие[93] С тех пор как написан мною диалог об искусстве, прошло очень много времени, и обстоятельства изменились невероятно.Писал я его в качестве ссыльного в маленьком северном городке Тотьме1. Мы были подпольной партией, пользовавшейся тюрьмой и ссылкой для того,
Предисловие*
Предисловие* Предлагаемая вниманию читателя книга под названием «На Западе» составилась следующим образом: во время моего пребывания за границей я, по соглашению с «Красной газетой», прислал оттуда восемь писем, частью из Берлина, частью из Парижа. В настоящее время я
ПРЕДИСЛОВИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ В 1990 году на волне интереса к затерянной культуре рубежа веков, когда толстые периодические издания существовали в основном благодаря републикациям, журнал «Театр» напечатал несколько статей Василия Розанова о театральном искусстве: «Актер», «Гоголь и его
Предисловие.
Предисловие. ЗАНОВО РОДИВШИЙСЯ АТЕИСТВ 1971-м году, учась в старшем классе средней школы Crescenta Valley, я принял в сердце Иисуса и стал «заново родившимся христианином», повторяющим вслух отрывок из Евангелия от Иоанна, благодаря верующим болельщикам украшающий бесчисленные