Лепажевское ружье и чиновничья шинель

(Н. ГОГОЛЬ. «ШИНЕЛЬ»)
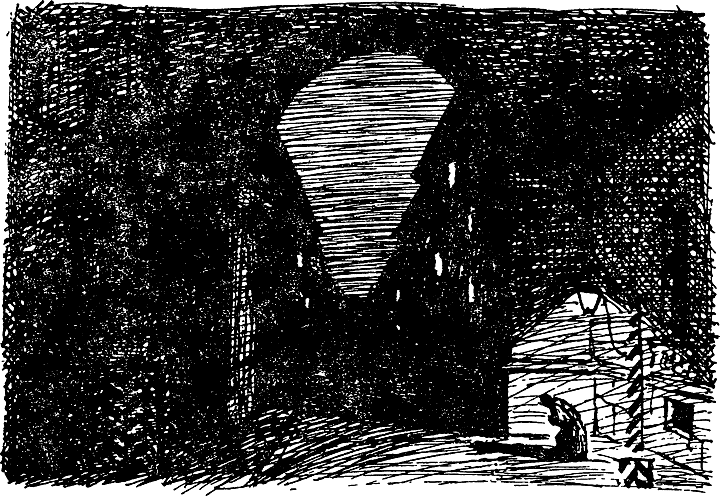
1
Первый биограф Пушкина, Павел Васильевич Анненков, был человеком острого, наблюдательного ума. Он дружил с крупнейшими русскими писателями своего времени: Гоголем, Белинским, Тургеневым, Герценом. Будучи за границей, он познакомился с Жорж Занд. По-видимому, он обладал завидной способностью завоевывать дружбу замечательных людей.
У него был поразительный дар распознавать крупных людей вне зависимости от степени их известности. В 1846–1848 годах он познакомился с молодым Марксом, имя которого мало кому было известно, и завел с ним деятельную переписку.
Анненков написал блестящую книгу «Воспоминания и критические очерки». В ней есть страница, представляющая для нас особый интерес: там описано, как зародился замысел «Шинели».
Однажды, пишет Анненков, при Гоголе рассказан был канцелярский анекдот (под словом «анекдот» тогда разумели истинное, чем-то любопытное происшествие) о каком-то бедном чиновнике, страстном охотнике за птицей.
Необычайной экономией и усиленными трудами в часы, свободные от службы, скопил он немалую по тем временам сумму в 200 рублей. Именно столько стоило лепажевское ружье (Лепаж был искуснейшим оружейным мастером того времени), предмет зависти каждого заядлого охотника.
Наступил долгожданный час. Счастливый обладатель только что купленного ружья выплыл на лодочке в Финский залив, предвкушая богатую добычу. Каков же был его испуг, когда обнаружилось, что ружье, которое он бережно положил на носу, чтоб не упускать его из виду, — исчезло. Очевидно, его стянуло в воду густым камышом, сквозь который пришлось продираться.
Как он мог хоть на миг выпустить из поля зрения свою драгоценность? По его собственным словам, дорвавшись наконец до исполнения заветнейшего своего желания, он «находился в каком-то самозабвении».
До позднего вечера он пытался отыскать ружье. Шарил по дну в тростниковых зарослях, совершенно выбился из сил, но все поиски были тщетны. Ружье, из которого он не успел сделать ни единого выстрела, навеки было похоронено на дне Финского залива.
Чиновник возвратился домой, лег в постель и уже не встал: его схватила жестокая горячка (деталь, сохраненная в гоголевской повести). Сослуживцы пожалели его и в складчину купили ему новое ружье. Так «возвращен он был к жизни, но о страшном событии он уже не мог никогда вспоминать без смертельной бледности на лице».
Слушателей позабавил случай с незадачливым охотником. Все смеялись.
Все, исключая Гоголя.
Он один выслушал рассказ «задумчиво и опустил голову. Анекдот был первой мыслию чудной повести его «Шинель», и она заронилась в душу его в тот же самый вечер».
В «анекдоте» Гоголь услышал совсем не то, что другие.
Беззаботных слушателей развеселило, что чиновник попал впросак по собственной рассеянности. Благополучный конец совсем как бы стер постигшую его беду.
Гоголя же рассказ погрузил в глубокую грусть. Он был хорошо знаком со скудным существованием мелких чиновников. Он сам тянул в молодые годы канцелярскую лямку в чине коллежского регистратора (самом низшем в чиновничьей табели о рангах), в должности писца.
В департаменте государственного хозяйства министерства внутренних дел он получал 30 рублей в месяц. Жалованье поистине нищенское.
Велик был у Гоголя запас живых впечатлений от жалких углов, где ютились бедные чиновники. Но до поры до времени этот запас лежал под спудом, неподвижным, нетронутым грузом. Требовался какой-то толчок, чтобы накопленные впечатления ожили, обрели внутреннее сцепление.
«Анекдот» как будто молнией осветил плоскую равнину будней мелкого чиновника. Выхватил кусок из туманной петербургской мглы, высветлил его, придав ему живость существования.
2
Что же в нехитром анекдоте так сильно разбудило творческое воображение Гоголя?
Потеря любимой вещи. Предмета давних и долгих мечтаний. Плода трудных усилий и тяжких лишений. И утрата в первый же день приобретения, что неимоверно обостряло драматизм ситуации.
Гоголь, по-видимому, сразу же оценил сюжетную действенность такого события, производимое им впечатление. Многое из «анекдота» было отброшено, многое изменено — об этом будет идти речь дальше. Но за эти центральные звенья кочующего «анекдота» Гоголь, очевидно, ухватился сразу же, перенес их в повесть без изменений.
И тут же Гоголь совершает громадного значения подмену. Утрачен предмет не роскоши, как лепажевское ружье.
Погибла вещь первейшей необходимости. Вещь, без которой нельзя существовать.
Шинель становится как бы действующим лицом — недаром повесть так и названа. Шинель обставлена множеством деталей. Гоголь не скупится на подробности. Острым глазом подмечая малейшую мелочь, касающуюся шинели, дорожа каждой, Гоголь внушает нам, что погружение в эту кучу мелочей вовсе не мелочность. Речь идет о деле безмерно важном, жизненно важном.
«Есть в Петербурге сильный враг всех, получающих четыреста рублей в год жалованья или около того. Враг этот не кто другой, как наш северный мороз…» Он раздает «такие сильные и колючие щелчки без разбору по всем носам, что бедные чиновники решительно не знают, куда девать их… Даже у занимающих высшие должности болит от морозу лоб и слезы выступают в глазах…». А бедные титулярные советники совсем беззащитны. И Акакий Акакиевич с некоторых пор начал чувствовать, как его «особенно сильно стало пропекать в спину и плечо», хотя путь до департамента он старался перебежать как можно скорее.
Лепажевское ружье — показатель некоторого достатка. Пусть даже достигнутого чрезвычайными усилиями. Изношенная шинель Башмачкина (сослуживцы презрительно обзывают ее «капотом», находя, что она даже не заслуживает своего названия) кричит о беспросветной нужде. Это, по выражению Пушкина, вопль «бледной нищеты», впервые раздавшийся с такой силой в русской литературе.
Шаг за шагом, с нарочитой скрупулезностью, описывает Гоголь упадок старой шинели. Сначала глазами Акакия Акакиевича: в трех местах, именно на спине и плечах сукно до того истерлось, что сквозило, и подкладка расползлась. Еще обстоятельнее — глазами портного Петровича. Он «взял капот, разложил его сначала на стол, рассматривал долго, покачал головою…». Затем «растопырил капот на руках и рассмотрел его против света и опять покачал головою… и наконец сказал:
— Нет, нельзя поправить: худой гардероб!»
Все просьбы Акакия Акакиевича поискать кусочки на заплаточки Петрович решительно отвергает: «дело совсем гнилое, тронешь иглой — а вот уж оно и ползет». И «заплаточки не на чем положить, укрепиться ей не за что». Остается одно: из шинели наделать онучек, потому что «чулок не греет», и шить новую шинель.
«При слове «новую» у Акакия Акакиевича затуманило в глазах, и все, что ни было в комнате, так и пошло пред ним путаться».
В нищенском быту маленького чиновника это катастрофа.
Тема шинели неуклонно разрастается, заполняя всю площадь повествования. Тщательно, с пристальной дотошностью описаны лишения, которыми усеян путь к новой шинели.
«Изгнать употребление чаю по вечерам», — решает Акакий Акакиевич. Это куда ни шло, бедствие не такое уж страшное.
«Не зажигать по вечерам свечи, а если что понадобится делать, идти в комнату к хозяйке и работать при ее свечке». И это не бог весть какое лишение.
«Ходя по улицам, ступать как можно легче и осторожнее по камням и плитам, почти на цыпочках, чтобы таким образом не истереть скоровременно подметок», — это уж требует адского терпения.
Наконец, «как можно реже отдавать прачке мыть белье, а чтобы не занашивалось, то всякий раз, приходя домой, скидать его и оставаться в одном только демикотоновом халате, очень давнем и щадимом даже самым временем». В холодном петербургском климате это, можно сказать, медленная повседневная пытка.
И такие чрезвычайные ухищрения по части экономии пришли в голову чиновнику, который способен был только на переписывание. И даже не мог составить отношения в другое присутственное место, где всего только требовалось переменить заглавный титул да переделать кое-где глаголы из первого лица в третье.
Вряд ли они могли прийти в голову чиновнику из анекдота, и вряд ли тот доходил до такой крайности.
* * *
У Акакия Акакиевича были литературные предшественники. Бедный чиновник Евгений («Медный всадник»), коллежский регистратор Вырин («Станционный смотритель» из «Повестей Белкина»). Пушкин очертил их выразительными, но краткими, скупыми штрихами. Он почти не касается повседневных обстоятельств, привычной обстановки их жизни. Гибель Параши, невесты Евгения, безумие самого Евгения, сломанная старость станционного смотрителя — все это вызвано чрезвычайными событиями (петербургское наводнение, бегство любимой дочери Вырина с заезжим гусаром).
Злосчастья Акакия Акакиевича — самые что ни на есть обычные. Они порождены обыкновеннейшими обстоятельствами. В этом великий смысл открытия, совершенного Гоголем. Он выказал исключительную художественную смелость, поведав читателю о, казалось бы, совсем неинтересном, не стоящем внимания. О скудной пище обитателей затхлых углов. О домах, из которых выбрасывают прямо на улицу, на головы прохожих всякую дрянь и нечистоты. О лестнице, отличавшейся тем, что была «умащена водой, помоями и проникнута насквозь тем спиртуозным запахом, который ест глаза». О кухнях, настолько полных едкого дыму, что «нельзя было видеть даже и самых тараканов».
Совершалось открытие неисследованного обширного материка человеческой жизни. Трудность открытия была в том, что неведомый континент находился рядом, под носом. И вид его так примелькался, что не вызывал решительно никакого интереса. До того заурядными представлялись и люди и их образ жизни, нужды и заботы.
Пожалуй, самое гениальное в сюжетном замысле Гоголя заключалось в том, что, переосмыслив «анекдот», он раскрыл и показал щемяще-скорбное в жизни своего героя еще до утраты любимой вещи, в самих условиях его существования. В сутолоке житейских мелочей Гоголь почуял подлинный трагизм.
У слушателей анекдота пропажа ружья уравновешивалась благотворительностью сослуживцев. У Гоголя этот эпизод сохранен. Но переиначен до неузнаваемости.
В канцелярском анекдоте чиновники собрали деньги, купили и преподнесли товарищу новое ружье. А в повести?
Известие о грабеже шинели, «несмотря на то, что нашлись такие чиновники, которые не пропустили даже и тут посмеяться над Акакием Акакиевичем, — однако же многих тронуло. Решились тут же сделать для него складчину…».
Благородно, не правда ли?
Однако, в противоположность анекдоту, «собрали самую безделицу».
Не потому, что чиновники какие-то изверги, бессердечные существа. Нет, это самые обыкновенные люди, не лишенные подчас и добрых намерений. Но они — службисты. Люди, зависимые от начальства, находящиеся в вечном страхе за благополучное прохождение службы. И сумма собранных денег «оказалась самая бездельная». Потому что чиновники «и без того уже много истратились, подписавшись на директорский портрет и на одну какую-то книгу, по предложению начальника отделения, который был приятелем сочинителю».
Перенеся из житейского случая мотив помощи сослуживцев, Гоголь пародирует ее. Выставляет ее несостоятельность, фиктивность.
Даже если бы не произошло ограбления Башмачкина, жизнь его — и ему подобных — была бы понята и изображена как горькое, нищее прозябание. Трагическое в «Шинели» только завершено пропажей новой шинели, но пронизывает повесть и до момента пропажи, независимо от нее.
* * *
Вспомним сцены, где на первый план выступают не менее горькие, чем нищета, забитость, приниженность маленького человека. Полная беззащитность его. Полная безнаказанность любого, кому взбредет желание поглумиться над людьми зависимыми, походя попирая их человеческое достоинство.
«В департаменте не оказывалось к нему никакого уважения. Сторожа не только не вставали с мест, когда он проходил, но даже не глядели на него, как будто бы через приемную пролетела простая муха. Начальники поступали с ним как-то холодно-деспотически… Молодые чиновники подсмеивались и острились над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия… сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом. Но ни одного слова не отвечал на это Акакий Акакиевич, как будто бы никого и не было перед ним… Только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил: «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?»
Вспомним следующую после этих слов вдохновенную страницу, сделавшую повесть Гоголя пламенным манифестом гуманизма, идеи которого подняли на небывалую высоту русский реализм.
Не будь этой страницы, Достоевский, возможно, и не произнес бы свое знаменитое: «Все мы вышли из гоголевской «Шинели».
«Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?» И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то такое, преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недавно определившийся, который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг остановился как будто пронзеннный, и с тех пор как будто все переменилось перед ним и показалось в другом виде… И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкой на лбу, с своими проникающими словами: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» — и в этих проникающих словах звенели другие слова: «Я брат твой».
«Бедный молодой человек», больше не появляющийся на страницах повести, — это сам Николай Васильевич Гоголь.
В робкой самозащите Акакия Акакиевича он услышал идущие сквозь века призывные слова: «Я брат твой». Выше этих слов не поднялись самые глубокие и возвышенные философско-нравственные учения. Они были выстраданы Гоголем, выстраданы им от имени человечества.
«И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости в утонченной, образованной светскости, и, боже! даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным».
Страница эта — кульминация первой половины повести. И одна из вершин русской и мировой прозы.
3
Гоголю был известен секрет слияния смешного и трогательного, комического и трагического, смеха и слез. Именно слияние, а не только совмещение или чередование.
Это драгоценный и редкий дар. Многим корифеям литературы он не был свойствен.
Сервантес, Гоголь, Диккенс владели им в совершенстве. Дон Кихот не был бы так близок нам, если бы не был смешон.
В наш век прошагал по экранам всего мира бродяга в потрепанной визитке, непомерно больших башмаках с чужой ноги, с маленькими усиками, в нелепом котелке. Гениальные картины Чаплина не производили бы такого громадного впечатления, если бы герой их не был так уморительно, бесконечно смешон.
Фильмы Чаплина рождали и рождают чувство необыкновенно острой жалости к обездоленному человеку. Но вряд ли появился бы на экране смешивший до упаду весь мир «Шарло» с его щегольской тросточкой и жалкими потугами казаться благопристойным джентльменом, если бы не явился раньше служивший «в каком-то департаменте» Акакий Акакиевич Башмачкин.
* * *
Повесть начинается со смешного эпизода выбора имени при рождении нашего героя. Почему ему дали неблагозвучное имя отца, удвоив тем самым его неблагозвучие? Но что могли сделать родители, когда в святцах они наталкивались на смехотворные имена: Мокий, Соссий, Хоздазат. Затем мелькнули Трифилий, Дула и Варахисий. Наконец, Павсикакий и Вахтисий.
Читатель беззаботно смеется. Начало не предвещает ничего печального. Поэтому так неожиданно сильно впечатление от эпизода с чиновниками, потешающимися над Акакием Акакиевичем, и прозревающим молодым человеком. Но и после этих страниц Гоголь на протяжении всей повести не раз заставляет нас от души посмеяться над Башмачкиным.
Нас смешит, что он «родился на свет уже совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове». Что переписка бумаг доставляет ему наслаждение и некоторые буквы у него фавориты. Когда он до них добирался, то был «сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его».
Нам смешно, что Акакий Акакиевич «имел особенное искусство». Какое же? «Ходя по улице, поспевать под окно именно в то самое время, когда из него выбрасывали всякую дрянь, и оттого вечно уносил на своей шляпе арбузные и дынные корки и тому подобный вздор». Переходя улицу, «Акакий Акакиевич если и глядел на что, то видел на всем свои чистые, ровным почерком выписанные строки, и только разве если, неизвестно откуда взявшись, лошадиная морда помещалась ему на плечо… тогда только замечал он, что он не на середине строки, а скорее на средине улицы». И это, как и многое другое, вызывает улыбку, а иногда раскатистый веселый смех.
4
Но вместе с рассеянными по всей повести потешными местами звучит и все нарастает хмурая нота горестной повседневности. Повседневности привычной и постоянной — ее уже и не замечаешь. И только раненное человеческими бедами сердце художника затрепетало и откликнулось. И понурый пейзаж городских углов, поникшие фигуры их обитателей вплотную приблизились к глазам читателя, представ в своем скорбном облике.
В том-то и назначение искусства, чтобы собрать распыленные крупицы существования, слепить из них образ бытия, открывающийся нам в своей подлинной сути.
Во второй половине повести мелкий ручеек быта начинает бурлить драматическими событиями, и горькая судьбина Акакия Акакиевича вырастает в широкую картину социальных невзгод.
В «анекдоте» лепажевское ружье пропадает по недосмотру владельца, в повести новая шинель становится добычей грабителей.
Но и тут и там — это крушение долго вынашиваемой мечты.
Мечта? Не слишком ли громко?
С этим словом мы привыкли соединять нечто возвышенное. Но в бедственной жизни маленького чиновника будущая новая шинель облеклась неким ореолом. Величественно вознеслась она над буднями, полными лишений. Акакий Акакиевич приучился голодать по вечерам, потому что он «питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели. С этих пор как будто самое существование его сделалось как-то полнее… как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу, — и подруга эта была не кто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке без износу».
Шинель — приятная подруга жизни? Смешно. До упаду смешно. Ну как не посмеяться над смехотворной торжественностью церемониала надевания новой шинели? Петрович совершает его, как некий обряд, чуть ли не священнодействие.
Вынувши шинель, Петрович «весьма гордо посмотрел и, держа в обеих руках, набросил весьма ловко на плечи Акакию Акакиевичу; потом потянул и осадил ее сзади рукой книзу: потом драпировал ею Акакия Акакиевича несколько нараспашку. Акакий Акакиевич, как человек в летах, хотел попробовать в рукава: Петрович помог надеть и в рукава — вышло, что и в рукава была хороша».
И даже после того, как шинель отдана заказчику, Петровичу трудно расстаться с великолепным созданием своих рук. Он вышел вслед за Акакием Акакиевичем «и, оставаясь на улице, долго еще смотрел издали на шинель и потом пошел нарочно в сторону, чтобы, обогнувши кривым переулком, забежать вновь на улицу и посмотреть еще раз на свою шинель с другой стороны, то есть прямо в лицо».
Такие куски нельзя читать без улыбки. Конечно, эпизод смешной. Смешной и трогательный. Ведь это самый большой праздник в жизни Акакия Акакиевича. Да и немалый для Петровича, который вечно пробавлялся мелким латанием да починкой. Шитьем новой шинели он как бы повысился в ранге своего портняжного сословия.
Тем разительнее и ужаснее после этого праздника постигшая Акакия Акакиевича беда. Ограбление происходит вечером того же дня, когда он надел обновку.
Любопытно, как Гоголь подготавливает грядущую напасть. Акакий Акакиевич спозаранку ушел с дружеской вечеринки, куда его затащил сослуживец. Он в самом приподнятом настроении. Нужды нет, что новая шинель подбита коленкором. Ведь, по словам Петровича, он «был еще лучше шелку и даже на вид казистей и глянцевитей». На воротник пошла не куница, как раньше предполагалось, потому что «была точно дорога». Вместо нее выбрали кошку. Но такую, какую издали всегда можно было принять за куницу.
Акакий Акакиевич на вершине счастья. И на самом краю катастрофы.
Позволю себе разбить следующий большой абзац на отдельные куски и «ударные» места дать курсивом. Так станет более ясно, как искусно и исподволь Гоголь сгущает темные, зловещие краски.
На улице было еще светло, но «скоро потянулись перед ним те пустынные улицы, которые даже и днем не так веселы, а тем более вечером.
Теперь они сделались еще глуше и уединеннее: фонари стали мелькать реже…
Пошли деревянные домы, забор; нигде ни души; сверкал только один снег по улице, да печально чернели с закрытыми ставнями заснувшие низенькие лачужки.
Он приблизился к тому месту, где перерезывалась улица бесконечною площадью, с едва видными на другой стороне ее домами, которая глядела страшною пустынею.
Вдали, бог знает где, мелькал огонек в какой-то будке, которая казалась стоявшею на краю света».
Трудно даже заметить, как обычные городские кварталы гиперболически окутываются роковым мраком. Обыкновенная площадь — страшная пустыня! Противоположная сторона — где-то на краю света! И даже в обычнейшем выражении «улица перерезывалась площадью» слово «перерезывалась» отдает жутью.
Акакий Акакиевич «оглянулся назад и по сторонам: точно море вокруг него».
Так мастерски подготовлено появление грабителей.
5
Ограбление предваряет вторую гениальную сюжетную находку Гоголя, — в «анекдоте» на нее не было и намека. Появляется новый персонаж, лучше даже сказать, персона, окончательно толкающая к гибели Акакия Акакиевича.
Это значительное лицо (в тексте повести эти слова всегда даются вразбивку, чтобы одним видом своим дать понять о высоком его сане).
Постепенно Гоголь подводит к персоне столь высокого ранга. В первом канцелярском эпизоде действуют сослуживцы Башмачкина, может быть, чуть-чуть выше его чином.
В эпизоде складчины уже начинают мелькать более крупные начальствующие лица. Именно они, даже не прямо, а только весом своим помешали мимолетному доброму побуждению сослуживцев помочь ограбленному бедняге. Чиновники слишком потратились на директорский портрет и на книгу, сочиненную приятелем начальника отделения.
Значительное лицо занимает куда более высокое положение в чиновничьей иерархии. Не просто начальствующее, но власть имущее лицо. Пожалуй, близко стоящее к правительственным сферам.
Замечательный исследователь пушкинской поры Анна Ахматова считала, что в образе «значительного лица» выведен не кто иной, как Бенкендорф — всемогущий шеф пресловутого «III отделения собственной его императорского величества канцелярии». Само название этого всероссийского застенка приводило ни в чем не повинных людей в содрогание.
По мнению Анны Ахматовой, скоропостижная смерть Башмачкина после приема его «значительным лицом» в какой-то мере навеяна внезапной смертью поэта Дельвига вскоре после разноса, учиненного ему Бенкендорфом.
Всемогущий николаевский вельможа неоднократно вызывал Дельвига, редактора «Литературной газеты», для объяснений. Особенно грубый нагоняй последовал после помещения резких полемических заметок против Булгарина и печатания стихов, посвященных июльской революции 1830 года.
Дельвиг держал себя с большим достоинством. Но угрозы Бенкендорфа «упечь» его (вместе с Пушкиным и Вяземским) в Сибирь подействовали губительно.
Проболев несколько дней, Дельвиг, неожиданно для всех окружающих, умер.
Анна Ахматова утвердилась в своей догадке, когда в прижизненном издании гоголевских сочинений 1842 года она прочла строку: «Значительное лицо сошел с лестницы и стал в сани».
Действительно, Бенкендорф имел обыкновение ездить в экипаже стоя.
Потом Гоголь изменил это место: вместо «стал в сани» — «сел в сани» (по-видимому, из цензурных соображений).
Но он по-прежнему нацеливается на высокие ступени чиновничьей иерархии.
Четырежды Гоголь указывает на генеральский чин значительного лица. («Получивши генеральский чин»; «до получения нынешнего своего места и генеральского чина»; Акакий Акакиевич «в жизнь свою… не был еще так сильно распечен генералом»; в бреду «чудилось ему, что он стоит перед генералом… и приговаривает: «Виноват, ваше превосходительство».)
Вернемся теперь к сцене, где Акакий Акакиевич приходит к Петровичу в надежде починить шинель. Трижды там повторяется совершенно ненужная на первый взгляд деталь: табакерка, на крышке которой намалеван генерал.
«Петрович взял капот… покачал головою и полез рукою на окно за круглой табакеркой с портретом какого-то генерала, какого именно, неизвестно, потому что место, где находилось лицо, было проткнуто пальцем и потом заклеено четвероугольным лоскуточком бумажки».
Петрович «вновь снял крышку с генералом, заклеенным бумажкой…».
«При слове «новую» у Акакия Акакиевича затуманило в глазах и все, что ни было в комнате, так и пошло пред ним путаться. Он видел ясно одного только генерала с заклеенным бумажкой лицом…» (курсив всюду мой. — Е. Д.)
Генерал, лишенный человеческого лица, вместо лица у него бумажка, — олицетворение бюрократического порядка.
Деталь эта — предвестие «значительного лица». Она и появляется в минуту, когда происходит осечка с починкой старой шинели, предваряя окончательную катастрофу после потери новой.
Так многозначительны незначащие как будто, невзначай брошенные гоголевские детали.
Когда перед грозными очами «значительного лица» появился жалкий проситель, лицо в генеральском чине затопало ногами, «возведя голос до такой сильной ноты, что даже и не Акакию Акакиевичу сделалось бы страшно. Акакий Акакиевич так и обмер, пошатнулся, затрясся всем телом и никак не мог стоять: если бы не подбежали тут же сторожа поддержать его, он бы шлепнулся на пол; его вынесли почти без движения».
Горячка сводит Акакия Акакиевича в могилу. Казалось бы, это прямое последствие ограбления: грабители ведь оставляют Башмачкина раздетым на морозе. Но Гоголь умышленно минует эту естественную мотивировку болезни. После похищения шинели Акакий Акакиевич как раз не заболевает. Он начинает обивать пороги полицейских учреждений, безуспешно хлопоча о поимке грабителей и возвращении похищенной вещи.
Кто-то надоумил беднягу обратиться к могущественному «значительному лицу». «Как сошел с лестницы, как вышел на улицу, ничего уж этого не помнил Акакий Акакиевич. Он не слышал ни рук, ни ног. В жизнь свою он не был еще так сильно распечен генералом… Он шел по вьюге, свистевшей в улицах, разинув рот, сбиваясь с тротуаров; ветер, по петербургскому обычаю, дул на него со всех четырех сторон, из всех переулков. Вмиг надуло ему в горло жабу, и добрался он домой, не в силах будучи сказать ни одного слова; весь распух и слег в постель. Так сильно иногда бывает надлежащее распеканье!» — кончает Гоголь.
Вот кто истинный и прямой виновник смерти Акакия Акакиевича: «значительное лицо»!
Значительное лицо и его распеканье.
Значительное лицо и его система.
«Главным основанием его системы была строгость. «Строгость, строгость и — строгость», — говаривал он обыкновенно… Обыкновенный его разговор с низшими отзывался строгостью и состоял почти из трех фраз: «Как вы смеете? Знаете ли вы, с кем говорите? Понимаете ли, кто стоит перед вами?»
Когда перед ним появляется маленький чиновник со своей смиренной просьбой, он прежде всего наводит на него страх своими дежурными фразами (с некоторым даже усилением: последняя фраза повторяется трижды: «Понимаете ли вы, кто стоит перед вами? понимаете ли вы это, понимаете ли это? я вас спрашиваю»).
Заставив трепетать жалкого Башмачкина, значительное лицо испытывает полное удовлетворение: эффект превзошел даже ожидание. Он совершенно упоен мыслью, что слово его может даже лишить чувств человека. Взглянул на приятеля, который сидел у него в кабинете при появлении Акакия Акакиевича, «чтобы узнать, как он на это смотрит, и не без удовольствия увидел, что приятель его… начинал даже с своей стороны сам чувствовать страх».
За дрожащим от страха приятелем значительного лица виднелась вся Россия, стоящая навытяжку перед сонмом значительных и «других, еще значительнейших», как выражается Гоголь, лиц, ежечасно ее распекающих.
С умыслом лишенное имени, фамилии и должности значительное лицо выросло во всероссийское значительное лицо. Оно олицетворяло бездушный, жестокий самодержавный порядок. Строй, построенный на сыске, строгости, бесчеловечности.
Из беззаботного анекдота выросла повесть, каждое слово которой звучало жгучим обличением.
* * *
Все более и более обострялось в XIX веке социальное неравенство, все углублялась пропасть между имущими и неимущими. «Люди на чердаках и в подвалах» начали занимать видное место в литературе.
Нередко эта тема густо окрашивалась сентиментальностью. Мы часто встречаемся с выражением «жалостливо-сентиментальный».
Но жалостливость и сентиментальность — далеко не одно и то же.
Сентиментальность — это приторная умиленность перед предметом жалости. Страждущие наделяются всеми мыслимыми добродетелями, — к примеру, карамзннская «Бедная Лиза».
Тогдашний читатель с великой охотой проливал слезы над страданиями «угнетенной невинности» с ангельским характером и ангельской красотой.
Сентиментальность противоречит истинной жалости. Реальные «униженные и оскорбленные» мало походили на их слащавые изображения.
«Шинель» не сентиментальна. Гоголь не желает скрывать и не скрывает, что Акакий Акакиевич нищ духом. Мелок, узок кругозор человека, только и способного, что переписать каллиграфическим почерком не им написанные слова. Да и видит он не слова, а только буквы. Не может не показаться ничтожным духовный идеал в виде шинели на толстой вате, на крепкой подкладке без износу.
Гоголь не приукрашивает своего героя, чтобы возвысить его до себя. Но и не возвышается над ним. Чем неказистее герой, тем острее горькая жалость к нему и ему подобным, тем повелительней завет человечности.
«Исчезло и скрылось существо, никем не защищенное…» Последние слова — самые важные. «Не защищенное» — значит, нуждающееся в защите. А защита не только помогает угнетенному человеку, но и самого защитника делает человеком.
«Исчезло и скрылось существо, никем не защищенное, никому не дорогое… существо, переносившее покорно канцелярские насмешки и без всякого чрезвычайного дела сошедшее в могилу, но для которого все же таки, хотя перед самым концом жизни, мелькнул светлый гость в виде шинели, ожививший на миг бедную жизнь, и на которое так же потом нестерпимо обрушилось несчастие…»
Строки эти — бессмертны.
* * *
Велико расстояние между мелким «анекдотом» и грандиозным по своей значительности сюжетом «Шинели». Не удивительно ли, что Гоголь зацепился за нехитрую историю с пропавшим ружьем? А ведь именно она явилась родоначальником «Шинели». Так же как крохотный ручеек в Калининской области дает начало Волге.
Как же это происходит?
В «Дневнике писателя» Достоевского мы читаем: «…чтоб только приметить факт, нужно тоже в своем роде художника… Проследите иной, даже вовсе и не такой яркий на первый взгляд, факт действительной жизни. — И если только вы в силах и имеете глаз, то найдете в нем глубину, какой нет у Шекспира. Но ведь в том-то и весь вопрос: на чей глаз и кто в силах?»
Гоголь умел видеть и был в силах рассказать о том, что видел.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК