Вячеслав Басков Падуанский портной
Вячеслав Басков
Падуанский портной
Иллюстрация Сергей Шехова
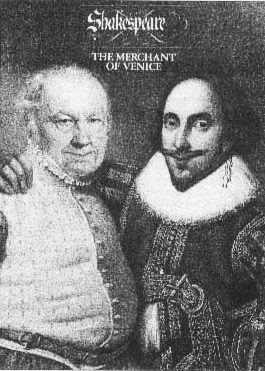
В драматическом театре американского города Линкольна (административный центр штата Небраска) не так давно произошло ужасное событие: актер Ричард Бёрбедж наотрез отказался выходить из образа. Об этом стало известно в тот день, когда в театр явилась миссис Риддс, дочь Ричарда, почтенная дама в широкополой шляпе с пером. Она застенчиво заявила режиссеру театра Анне Романофф, что ее отец, Ричард Бёрбедж, уже много дней не приходит домой ночевать. Однако родные решили пока не обращаться в полицию, потому что папа жив, он даже охотно разговаривает со своей семьей по мобильному телефону — например, вчера после спектакля долго беседовал с ее сыном, а его внуком Джорджем. И вообще с ним все в порядке, кроме одного: он в образе. Войти в него вошел, а выйти — не выходит. Миссис Романофф выразительно молчала.
Миссис Риддс заявила далее, что она пришла в театр за помощью. Ну, за простой человеческой помощью и участием.
Миссис Романофф молчала. Она только отстраненно смотрела на даму в широкополой шляпе с пером. Это великое молчание по системе Станиславского, вероятно, призвано было сказать больше, чем слова.
Но миссис Риддс, судя по ее поведению, была абсолютно глуха к выразительным средствам и молчания не понимала. Она сказала более твердым голосом, что папу нужно снять с роли и тогда он из образа выйдет. К такому выводу пришли все члены семьи и уполномочили ее пойти в театр с этим ходатайством.
Анна Романофф наконец стряхнула пепел с сигареты в обширную хрустальную пепельницу и отверзла уста.
— Не понимаю, о чем вы, — произнесла она. И тут же поспешила добавить: — Я после репетиции очень устала. Что вам нужно от меня?
— Мы просим вас снять папу с роли.
— С какой стати? И кем я должна его заменить? Муниципалитет Линкольна строго ограничил число актеров в городском театре. Моя бы воля, я бы сняла с роли многих, но, к сожалению, я не вольна в своем театре. Я связана по рукам и ногам. Да и кто я такая в нашем театре!.. Пятая спица в колеснице.
— Но так дальше не может продолжаться! — вдруг вскипела почтенная дама в широкополой шляпе с пером. — Мы с вами разговариваем, как глухие! Вам ясно, что Ричард Бёрбедж вошел в образ и не выходит из него? Он ушел из дома!
— Это его личное дело, — парировала без промедления Анна Романофф.
Быстрота ее реакции на реплику заставала врасплох самых бывалых актеров. Но миссис Риддс не чувствовала себя на сцене, она была очень земной особой, поэтому отвечала еще быстрее, чем миссис Романофф:
— И ваше тоже! Вы не имеете права!
Миссис Романофф снова дернула кистью руки над пепельницей, сильно закрутила полсигареты о хрустальную поверхность и поднялась.
— Никто никогда не входит в роль настолько, чтобы уйти из дому. Я о таком еще никогда не слышала, — произнесла она как-то величественно.
Миссис Риддс поднялась тоже.
— Снимите папу с роли, — сказала она отнюдь не просительно.
— Не сниму, — был ответ.
И дамы расстались. Они друг друга не поняли.
Ясно было только, что с Ричардом что-то не так. Это был человек пятидесяти девяти лет, обрюзгший, невысокого роста. Его жена была выше его. Он проработал актером всю свою жизнь, Линкольнский муниципальный театр заключал с ним вот уже восьмой трехгодичный контракт, и миссис Романофф не могла сказать о Ричарде Бёрбедже ни плохо, ни хорошо. Ричард был «старик», который нужен всякому театру, но которого не всегда найдешь, потому что в наше время актеры в театре до старости уже не задерживаются. Годам к сорока они убеждаются, что Гамлет им не светит, и идут в бизнес, в торговлю, встают в магазинах за прилавок, запираются в библиотеках составлять каталоги, где тянут до пенсии. Душную театральную атмосферу выдюживают семижильные.
Ричард Бёрбедж мужественно держался за свою профессию, которая отплатила ему черной неблагодарностью: за всю свою жизнь он не сыграл ни одной главной роли и в эпизодических не сыграл ничего яркого. В этом сезоне он играл крохотный эпизод в спектакле "Война и любовь" ("The war and the love") по пьесе Вильяма Шекспира "Укрощение строптивой". Анна дала ему роль портного. И кто бы согласился на эту роль, кроме него! В репертуаре театра было еще шесть пьес, но все они мюзиклы, и хрипловатому, безголосому Ричарду там роли не нашлось. Когда-то в молодости он бил чечетку, но сегодня чечетка… На следующий сезон он должен играть Фирса в пьесе "Вишневый сад", которую Анна брала для себя. Может быть, у него поехала крыша?
Однако вскоре крыша поехала у самой миссис Романофф. Все, что говорила ей дочь Ричарда (миссис Романофф напрочь забыла ее имя), оказалось чистейшей правдой. От нее эта самая дочь в шляпе отправилась на телевидение, и в тот же вечер миссис Романофф увидела на экране своего Ричарда Бёрбеджа в костюме портного из спектакля "Война и любовь". Он отвечал на вопросы корреспондентки.
Из рассказа актера выходило: он настолько вжился в образ портного, что предпочел жить в Падуе 1593 года. Где, собственно, живет теперь. Он прибывает в Линкольн исключительно на спектакли. На этой неделе у него по расписанию еще один спектакль, именно сегодня, на следующей — ничего, в первой неделе марта — сразу два спектакля. Все было так.
В Падуе Ричард Бёрбедж работает портным, живет на Санта Мария дель Кармине, у него свое ателье, шесть мальчиков-подмастерьев. Воздух в Падуе чистый, обстановка в городе относительно спокойная, его, Ричарда, там уважают соседи, у него нет отбоя от заказов, потому что одеваться, извините, приходится всем, это вам не Линкольн, где можно ходить по центральной улице в чем мать родила.
— Поймите, Падуя — городок хоть и небольшой, но народу у нас не меньше, чем в самой Венеции. До нее рукой подать, минут сорок на почтовой карете, часа полтора пешком. Или те же часа полтора на волах. Но я люблю как раз пешие прогулки, если, конечно, не требуется отвезти платье немедленно или не зовут срочно на примерку. Я же теперь не помощник портного, я в гильдии мастеров, — говорил телезрителям Ричард Бёрбедж.
И миссис Романофф, Анна Романофф собственной персоной, сидела в своем кабинете у телевизора, смотрела на экран и, забыв обо всем, слушала весь этот бред.
— Потом, у нас там классное питание. Пища здоровая, без химии совершенно! Никаких термоприборов, естественно, нет, все готовится на живом огне, на вертеле. Каплунов много, куропаток… — Ричард смущенно улыбнулся, как человек, которому неловко говорить больному о своем хорошем самочувствии. — Очень чистая вода. Родниковая. Прямо во дворе под навесом из-под земли бьет ключ, течет ручей. Стираем в нем ткани для усадки. Добрые, приветливые люди. Правда… — тут Ричард слегка замялся, — испанцы достают. Вот они уже где! Грабят нашего брата-итальянца безбожно! К нашим девушкам пристают. И наши тоже хороши. Очень эмоциональные. Они немного диковаты еще. За это время в городе произошло несколько драк между своими. Но каких, боже! Дерутся на шпагах, прокалывают друг друга кинжалами безжалостно! Цивилизованному человеку смотреть на такие вещи очень трудно. Кровь, размозженные головы, отрезанные руки, ноги… Самое уязвимое место для шпаги — глаз. Я сам чуть было не ввязался в одну поножовщину, спасибо — подмастерья удержали. С другой стороны, я их очень хорошо понимаю. Свежий воздух, сочная пища, здоровье у каждого — то, что моя бабушка называла "кровь с молоком". Я даже в молодости не был таким крепким. Да и откуда? Детский сад, школа, потом театральная школа — и театр, театр, театр. Я уж не говорю о семье, налогах, кредитах… Хочу поехать в Англию, познакомиться с Шекспиром. Но, по всему, не доеду — стар стал, дороги не выдержу. И за каждым кустом — испанцы!
— Но скажите нам, Ричард, как же вы все-таки из нашего двадцать первого века попадаете туда, в конец шестнадцатого? — перебила его корреспондентка и взглянула на собеседника эдак снизу, как бы готовая принять любой, самый непостижимый ответ. — Это непонятно. Как все происходит? Согласитесь, что поверить в это трудновато даже нам, работникам телевидения. А уж у нас на телевидении чего только не бывает!
— Почему трудновато? — переспросил вежливо Ричард. — Ничуть. Я там живу. Вот мой колет, моя шапочка, мои туфли, моя игольная подушечка. Я живу в Падуе и приезжаю сюда на спектакли. Не в моих правилах подводить товарищей. Кто, кроме меня, сыграет эту маленькую роль?
— На чем приезжаете?
— Ну… Ни на чем, а просто еду да и все. Я ведь знаю, что у меня спектакль в такой-то день. Не могу же я не прийти на спектакль. Что тут непонятного?
— А вот сейчас вы сможете на глазах у всех телезрителей поехать к себе в Падую? — загадала загадку лукавая корреспондентка.
— Прямо сейчас? — озаботился Ричард.
— Да, вот прямо сейчас! В прямом эфире! — задорно вскричала теледива, строя из себя девочку.
— Нет. Сейчас, извините, никак не смогу. У меня скоро выход.
— Ах, действительно! — рассмеялась корреспондентка живо и как-то слишком непринужденно. И обернулась к объективу телекамеры. — Мы разговариваем с актером Ричардом Бёрбеджем в его гримерной. На сцене уже начался спектакль "Война и любовь" по пьесе величайшего драматурга Вильяма Шекспира "Укрощение строптивой". Действие этой пьесы, как помнят телезрители, происходит в итальянском городе Падуе и недалеко от него, в загородном доме, как раз там, куда переселился и наш соотечественник Ричард Бёрбедж. Он выбрал свежий воздух, чистую воду, здоровую пищу! Ему можно только позавидовать!.. — Девица обратилась к Ричарду, и телекамера взяла крупным планом невыразительное, помятое лицо актера. — Но после того как вы отыграете вашу ответственную роль, Ричард, куда вы пойдете?
— Домой, — ответил Ричард без запинки.
— Домой… — повторила корреспондентка. — Куда? В Линкольн или в Падую?
— Конечно, в Падую. Я вошел в образ, понимаете, и трудно из него выходить. Откровенно говоря, мне уже давно надоело выходить из образов. Иногда так вживешься, что весь в роли. А тут как раз сезон подходит к концу — и спектакль, как назло, с репертуара снимают. А на другой опять все сначала: новые спектакли, новые роли… Быть актером очень трудно. Зверская работа.
— Да… — протянула понимающе корреспондентка, почему-то прищуриваясь. — У актеров работа нелегкая.
— А тут я решил: останусь в образе, раз мне этого хочется! Была не была! А если на следующий сезон "Укрощение строптивой" снимут, то и я больше в театре работать не буду. Обойдутся без меня.
— Без вас? Что вы, Ричард! Наш город не представляет театра без вас! — неискренне вскричала корреспондентка.
— Впервые слышу, — сострил Ричард. — Сколько работаю, такого мне еще никто не говорил. Один раз как-то ко мне подошла зрительница и сказала, что ей нравится, как я играю Хромого Тигла. Тогда ставили сказку про разбойников. Давно это, правда, было, в молодости.
— Но если не актером, то кем же вы будете? — спросила корреспондентка.
— Так я уже портной! Отличная работа!
— Но где же вы будете жить? Где вы вообще будете? — закричала корреспондентка.
— Не на улице, — тихо ответил Ричард, мастерски "сажая сцену". — В Падуе у меня отличный дом. Я же вам уже все рассказал.
И тут миссис Романофф вдруг осознала, что диалог корреспондентки с ее актером Ричардом Бёрбеджем не записан на пленку, а ведется прямо отсюда же, из ее театра! Она швырнула в пепельницу сигарету, помчалась на актерскую половину и — о, ужас! Она увидела, что возле гримуборной Бёрбеджа столпился театральный народ, внутри пылает яркий свет, а по полу тянутся телевизионные кабели! Репортаж шел действительно из театра!
Миссис Романофф не сдержала бег. Она ринулась к толпе, прорвалась в уборную — и перед ней открылась любезничающая парочка, два голубка. Ричард сидел на своем месте, в кресле перед зеркалом, а журналисточка примостилась сбоку, под самым юпитером, и то и дело взглядывала на себя в зеркальный разлет, чтобы оценить, как она смотрится.
— С семьей тут полный порядок, — говорил Ричард. — Я им уже натаскал из Падуи золотых нитей, цепей, бриллиантов, разных камней столько, что им до конца жизни хватит. Конечно, скучаю по внукам, но, знаете, Падуя мне теперь всего дороже. Я не хочу оттуда уезжать. Мне там нравится. Это мой выбор.
— Но позволите один неделикатный вопрос? — спросила корреспондентка, глядя на себя в трельяж несколько загадочно.
— Спрашивайте, что хотите, — непринужденно отвечал Ричард.
— Вы сказали, что принесли немало драгоценностей оттуда:.. Из Падуи, я имею в виду. Там что, много… всего такого? — и корреспондентка рассмеялась.
— Я же работаю с драгоценностями, — ответил Ричард Бёрбедж, падуанский портной. — В то время платья были не из одной материи, пуговиц и молний, как у нас. Их надо расшивать камнями, золотыми нитями, цепями. Это очень нелегкая работа. Мы же шьем платья вручную, машинок еще нет. Зингеровскую изобретут, дай бог, в девятнадцатом веке. Мы работаем иглами. Камни идут вот так — по корсажу, по лифу, вниз по куполу… ну, по юбке по-нашему, и, наконец, по подолу вкруговую. Обшиты камнями и золотом обязательно и мужские костюмы. Обязательно! Ни один порядочный человек, независимо от возраста и звания, не посмеет показаться людям на глаза в платье, не отделанном камнями. В дело идут рубин, сердолик, хризопраз, гелиотроп, сардер, моховик, сапфирин, ну и разумеется, агат, оникс… В общем, кремни, халцедоны. Бриллианты, алмазы, естественно… Это моя работа!
— Ваш рассказ столь необычен, Ричард! — сказала корреспондентка, сраженная простотой и непосредственностью актера.
И вдруг ей пришла в голову озорная идея.
— А вы позволите, Ричард, нашей съемочной группе заснять вас в тот момент, когда вы будете уходить домой в Падую? После спектакля? Это будет так интересно!
— Ну, если вам интересно, пожалуйста! — отвечал, рассмеявшись, обрюзгший актер, которому до пенсии надо было трудиться еще шесть лет. — Только я сам не знаю, как это выглядит со стороны и что в этом интересного. Я в образе — вот и все! Вы лучше покажите наш спектакль. Актер интересен только на сцене. А после спектакля до него никому нет дела.
И эта серость, эта посредственность еще смела посягать на афоризмы! Миссис Романофф вырвалась из толпы и побежала в мужскую костюмерную.
— Рич Бёрбедж возвращает вам костюм после спектакля? — вопросила она костюмершу миссис Энджи. — Возвращает, я спрашиваю, Рич тебе костюм после спектакля, дрянь? — завопила сквозь стиснутые зубы режиссер, слету поняв ответ костюмерши, — той нечего было ответить. — Ты уволена! Уволена, дрянь!
И миссис Романофф полетела к себе в кабинет.
С этой-то минуты в театре и поднялся переполох. Известие об увольнении старухи Лоры Энджи разошлось за кулисами тотчас. Но миссис Романофф еще не докончила начатого. Она вылетела из кабинета и помчалась в реквизиторскую.
— Ты принимаешь от Бёрбеджа реквизит после спектакля? — вопросила она реквизиторшу Мэлли Скотт.
— А у мистера Рича нет никакого реквизита, — отвечала бойкая женщина, привыкшая иметь дело со всякой мелочевкой.
— А кольцо? А эти… как их?..
— Никаких колец у мистера Рича нет. Я разве не знаю, у кого что есть? Ничего у мистера Бёрбеджа нет и не было с первого спектакля! Рич — портной! Он выходит с платьем для Катарины — какие там кольца, господи помилуй!
— А подушечка с иголками! — возопила режиссер. — На локте у него подушечка на резинке!
— Подушечка? — каменея, произнесла Мэлли.
— Ты уволена, дрянь! — сказала зловеще миссис Романофф и пошла прочь.
Как раз начался антракт, и за кулисами было людно. Радио транслировало шум зрительного зала. И вдруг за спиной режиссера раздался крик:
— За что уволена-то? За подушечку? Да я тебе таких подушечек сто нашью, если надо!
Анна Романофф остолбенела. Оглянулась. Дрянь-реквизиторша стояла у себя в дверях и кричала ей, главному режиссеру, вдогонку свои проклятья.
— Да чтоб я провалилась, если позволю себя уволить всякой там режиссерше! Да будь ты проклята со своей подушечкой! Не было у нас в реквизиторской никаких подушечек! Ему, может, кто подушечку сшил, а увольнять будут меня? Я не старуха Энджи! За меня вступятся!
Реквизиторша смеялась. Она была, оказывается, еще и пьяна! Во время спектакля… Анна Романофф почувствовала, что остывает — сейчас ее опрокинут на носилки и хладную увезут.
— Не брал он у меня никакой подушечки! За ним не записано! — кричала бравая Мэлли Скотт, потрясая ветхим журналом. — Ничего у меня за ним не числится и никогда не числилось, что ж я, не знаю, за кем у меня что записано? А так просто себя увольнять не дам! Стоит, смотрит! Да смотри, сколько хочешь, я тебя не боюсь, я же не артистка бесправная! Мне режиссеры не указ! Мне вон пьесу положили — что в ней написано, то я актеру и обязана дать!..
Миссис Романофф продолжила путь под крик:
— Владычица проклятая!
Видит бог, она хотела, как тише, как интеллигентнее. Не ее вина, что в этот момент в театре оказалось телевидение. Оно не заглядывало к ним уже лет пять или даже больше.
И вот это самое телевидение вдруг живо заинтересовалось мнением главного режиссера. Оппозиция Анны Романофф ко всему происходящему с Ричардом Бёрбеджем стала очевидной. Телегруппа направилась к ее кабинету.
Однако дверь оказалась запертой. Корреспондентка попросила у студии еще мгновение, его ей дали, и она повела прямой репортаж, стоя возле запертой двери. Она говорила, что поведение главного режиссера Анны Романофф непонятно всем, кто работает в театре. В самом деле, почему она не общается с Ричардом Бёрбеджем, который отказывается выходить из образа настолько, что оставил семью в двадцать первом веке и удалился в конец шестнадцатого? Что об этом думает Анна Романофф? И вот мы стучим в ее дверь, мы в нее даже колошматим, но дверь не отпирается. Однако нам доподлинно известно, что Анна театра не покидала…
— Миссис Романофф, отоприте, пожалуйста, замок! Скажите несколько слов нашим и вашим зрителям! Имейте уважение, если хотите, чтобы уважали вас! — барабанила в дверь обнаглевшая представительница электронного средства массовой дезинформации, раздувая скандал до сенсации.
Сцену за собственной дверью миссис Анна Романофф наблюдала по своему кабинетному телевизору, запершись ото всех, потрясенная грубостью, невоспитанностью Мэлли Скотт, которую она сама, лично, принимала в театр на работу не долее как лет семь назад, тогда еще ставили «Дурочку» Лопе де Вега. И вот, стоя подле двери, корреспондентка мило вещала о том, что, по слухам, из-за Ричарда Бёрбеджа уже уволены полтеатра. С подробностями она обещала выйти в эфир попозже, когда главный режиссер соизволит отпереть дверь. Она так и выразилась: "соизволит".
Начался второй акт. Не отрываясь, смотрела свой телевизор Анна Романофф. Неужели телевизионщики такие дураки, думала она, привычно быстро остывая от правдиво разыгранных страстей в костюмерной и реквизиторской, что не покажут зрителям сцену с портным? Это была бы прекрасная реклама театру!
Но по телевизору шли наскучившие новости из Ирака, где взорвался склад с оружием. Однако творческое чутье режиссера не обмануло. Действительно, к приезду Петруччо с Катариной в загородный дом телекамера была уже нацелена на сцену, и корреспондентка верещала: "Обратите внимание на портного! Обратите внимание на гениальную игру Ричарда Бёрбеджа!".
Петруччо
Как наше платье? Покажи, портной.
Помилуй бог! Оно для маскарада?
А это что? Рукав? Да нет, мортира!
Изрезан весь, как яблочный пирог, —
Надрез, прореха, вырез и прорез!
Как будто бы курильница в цирюльне!
Черт побери! Да что ж это такое?
Гортензио
Ей не видать ни шапочки, ни платья.
Портной
Вы приказали сшить его красиво
И в соответствии с последней модой.
"Великолепно играет! — призналась себе Анна Романофф, следя за сценой по телевизору. — Играть-то нечего, а играет, дьявол!"
Петруччо
Ты смеешь поносить меня, катушка,
Лоскут, тряпье, заплата! Прочь отсюда,
Не то тебя я разутюжу так,
Что спорить ты отучишься навеки.
Я говорю — ты ей испортил платье!
Портной
Нет, сударь, вы ошиблись. Платье сшито,
Как моему хозяину велели…
Миссис Романофф оставила заточение и направилась на сцену. В темноте кулис к ней летучей мышью бросилась красавица Айва Дорман, бессменная Катарина:
— Я не могу с ним играть! — зашептала она страстно. — Он так играет, что мне хочется плакать! Меня душат рыдания, Анна! Но ты же ставила перед ним другую задачу!
— Я с ним поговорю, — отвечала шепотом режиссер, вдруг озаботившаяся тем, что у портного выхода больше нет, роль Ричарда закончилась, и близится момент его ухода в Падую, в 1593 год.
От самой этой мысли миссис Романофф закачало. Она представить себе не могла, что когда-нибудь доживет до такого абсурда. Она была готова к провалу и освистыванию, к успеху и овациям, но только не к бреду. Она направилась в уборную Ричарда. Разгримироваться-то он должен.
И вот она опять в его уборной. Ричард Бёрбедж сидит перед трельяжем и как ни в чем не бывало стирает с лица грим. И вот они наедине — режиссер и актеришка.
Все, что случилось перед этим, было идиотизмом, фантасмагорией, ничего не было.
— Ах, Рич, как ты меня напугал!
— Что такое? Чем? — спрашивает Рич встревоженно.
— Даже не знаю, с чего начать, дорогой…
— Ты и меня хочешь уволить? Играю плохо? Говори прямо, Анна.
— Да нет, все не то. Играешь ты замечательно…
Анна Романофф просто не в силах заставить себя вымолвить бред. Она физически не знает, какими словами поговорить с Ричи о его переезде в Падую времен Шекспира.
Рич молчит и смотрит на режиссера. Лицо его измазано гримом, белым кремом, к щеке прилип клочок лигнина.
— Ко мне приходила твоя дочь, — тяжело вздохнув, выговаривает режиссер. — Понятия не имела, дорогой, что у тебя уже взрослые дети. Да, кстати, — вдруг оживившись, перебивает сама себя Анна Романофф, — я узнала, что ты не сдаешь костюм в костюмерную. Почему, дорогой? Зачем он тебе?
— Я слежу за ним сам, — отвечает Рич Бёрбедж. — Сам стираю воротник. Я хочу на каждом спектакле быть в чистом воротнике. У меня от этого особое самочувствие, понимаешь?
— Дожили. Неужели Лора не стирает твоего воротника?
— И манжеты еще. Конечно, нет. Не может же она стирать костюм после каждого спектакля!
— Рич, прошу тебя, сдавай костюм в костюмерную, я скажу Лоре, чтобы она стирала каждый раз и твои воротник с манжетами, и вообще всех! Как это глупо. Прошу тебя, не огорчай меня, Ричард. Сдавай костюм. Пойди вот прямо сейчас и сдай. Разденься, надень свою одежду, а эту, портновскую, оставь здесь на вешалочке. Я скажу, чтобы костюм у тебя брали тут, в уборной. Ну, прошу тебя, не огорчай меня. Ты же знаешь, что у меня со здоровьем.
— Сегодня я не сдам, — кротко воспротивился наглый Ричард.
Миссис Анна Романофф протянула к актеру свою добрую руку с пальцами, унизанными кольцами, и положила ладонь ему на колено.
— Что с тобой, Ричи мой? — сказала она тихо и ласково, как Раневская, роль которой приготовилась оставить за собой. — Что, дружок? Давай будем с тобой говорить, говорить, говорить…
И тут Рич рухнул перед ней на колени, сложил руки у подбородка, как мусульманин, и взмолился:
— Анна! Не отнимай у меня костюма! Я тебе принесу другой! В нем я в образе, а в другом уже не смогу. Я с ним сжился! Я тебе сошью новый, правда, я не обману, Анна! Только не отнимай у меня этого костюма! Он часть меня самого!
По лицу Ричарда, некрасивому, серому, лицу посредственности и ничтожества, измазанному смесью грима с кремом, струились натуральные слезы.
"Лир!" — ужаснулась Анна Романофф, увидев в Ричарде готового короля-глупца и вдруг поняв, какой спектакль должна ставить немедленно. Чехова она хотела ставить из эгоистических соображений, но в театре не было ни одного актера для "Вишневого сада", она подтягивала пьесу под себя. А теперь перед ней стоял на коленях и маялся живой король Лир — и Анна Романофф подумала словами красавицы Дорман: "С ним же невозможно играть! Меня душат слезы, я не могу говорить". Ричард не играл — он жил. В его глазах был такой терпкий сгусток отчаяния, что Анна Романофф мысленно кинулась к нему, чтобы прижать его голову к себе, защитить его от самой себя. Она проглотила слезы, чтобы они не брызнули из глаз, не выдали ее сочувствия тому, над кем она сознательно измывалась.
Но он еще не договорил, как дверь распахнулась и на пороге появились все эти телевизионщики со своим слепящим юпитером, с уже включенной камерой и жадной до любых сенсаций корреспонденткой. Миссис Романофф тотчас восстала из кресла, она не желала становиться добычей журналистки, ищущей скандала. Ричард остался на полу, у ее ног. Это ее потрясло. Она слышала, как жужжала камера, всю себя она видела со стороны, потому что ее с Ричи объял яркий свет, источавший жар.
— Анна! Не отнимай моего костюма, заклинаю тебя! Я принесу тебе пять, шесть таких же! Еще лучше! Принесу столько, сколько захочешь! Ты будешь иметь их бесплатно, я одену весь спектакль, только оставь мне этот! Ну что тебе стоит, Анна? — причитало, рыдая, ничтожество, бесстыдно работая на телекамеру.
— Встань, негодяй! — вдруг вскричала патетически Анна Романофф, чувствуя себя Раневской, когда ее бросил последний любовник в Париже. Нет, теперь она была жестокой Гонерильей. — Не унижайся передо мной. Это бессмысленно. Ты сделаешь так, как я тебе велела. Ты сейчас же снимешь костюм и сдашь его в костюмерную. Лора не уйдет домой до тех пор, пока не примет от тебя костюма.
Ричард попятился на коленях, обняв себя руками, схватив ими колет. Этот выразительный жест, свойственный королю Лиру, читался без слов: "Не отдам!".
— Так ты не снимешь, Ричард? Ты посмеешь огорчить меня?
— Анна, пощади! — рыдал Ричард Бёрбедж, все больше напоминая в своем бесстыдстве и безобразии короля Лира.
В дверях толпились уже и актеры, и обслуживающий персонал. Возможно, прервался спектакль, и весь город стоял в дверях, и бурлил, и наслаждался этой высокой трагедией. Актриса просто не имела права не утолить народной тоски по классике. Она бы себе этого не простила как режиссеру.
— Тогда я сама тебя раздену! — возвестила Анна Романофф, сделав несколько шагов к Ричарду, согнулась и наложила решительные длани свои, унизанные драгоценными кольцами, на шею Ричарда Бёрбеджа — к тому месту, где начинались крючки, на которых держался колет.
Но произошло нечто недопустимое. Рич завизжал, схватил, рыдая, Анну за обе руки и оторвал их от себя. Он забился под гримерный столик. Опрокинулся на пол стул. Покачнулся и рухнул трельяж, увлекший за собой всю актерскую косметику, с пола поднялось сладкое облако пудры. Из-под стола тем временем неслось душенадрывающее:
— Отнимают! Ничего у человека не осталось, так отбирают и последнее! Дайте хоть пожить самую малость себе на радость, изверги! Привыкли издеваться над актерами! Не отдам! Отвяжитесь от актера! Оставьте актера в покое!
Рич Бёрбедж выкарабкался из-под столика, вскочил на ноги и ринулся на телекамеру, на разинувшую пасть корреспондентку, по дороге сшиб Анну Романофф, та упала на кресло и больно ударилась об его ручку. Рич Бёрбедж бежал по коридору до тех пор, пока его вдруг не стало.
Коридор никуда не вел. Он заканчивался стеной. На стене той висел портрет ухмыляющегося сквозь пенсне Станиславского. И стена была, и портрет висел, как висел, только слегка покачивался от сквозняка, а Ричарда Бёрбеджа не было… Хорошо, что всю эту сцену засняла телекамера. Теперь никто не скажет, что это вранье.
Видевшие побег стояли недвижно. Нечасто у нас на глазах живой человек растворяется в воздухе, как мышонок Микки в мультфильме Диснея. Не видевшая последнего акта Анна Романофф вскочила с кресла и побежала за Ричардом в коридор. Она крикнула, как ей казалось, вдогонку убегавшему:
— Ричард, это же бред! Бред! Я не хочу ничего плохого!
Но коридор был пуст.
Тогда Анна Романофф пошла по коридору, отворяла двери гримуборных, заглядывала в них, но Ричарда ни в одной не было. Наконец Анна остановилась под портретом Станиславского. Пощупала раму, заглянула за картину, провела рукой по полотну. Дальше идти было некуда. Она подняла голову и взглянула прямо в глаза своему великому учителю. Он молчал. Ухмылялся. И эти ее поиски следов Ричарда Бёрбеджа камера засняла тоже. Как и ее вопрос, обращенный к стоявшим в другом конце коридора:
— Вы не видели, куда он делся? Где Ричард Бёрбедж?
Ей ничего не ответили. Телеоператор шепнул корреспондентке: "Будешь брать у нее интервью?", и корреспондентка ответила: "Она его уже дала. Дай ее крупняк".
Но все кончилось хорошо. Через неделю на спектакль "Война и любовь" сбежался весь город. Всем хотелось узнать, кто теперь будет играть роль портного и не надумает ли и он удрать в Падую. Ходили слухи, будто в театре на эту роль устроили конкурс. Желающих жить в Линкольне становилось все меньше, многих мирных жителей обуяла страсть к театру, их потянуло на сцену и в шестнадцатый век. В театр стали съезжаться актеры из других городов Америки. Пошел слух, будто в городке Линкольне образовалась "озоновая дыра" в прошлое, вызванная усиленной работой домашних холодильников и компании IBM, производящей компьютеры. Но миссис Анна Романофф обратилась к шерифу с просьбой оградить театр от посягательств разномастных прощелыг. Она собрала труппу и объявила, что жизнь продолжается, а искусство — бессмертно. Ничего не случилось, и она не потерпит нарушения дисциплины. Дисциплина в театре — это то, с чего он начинается в действительности. Если же, добавила миссис Романофф, в день спектакля Ричард Бёрбедж не явится для исполнения роли портного, его роль будет играть она сама — чтобы поставить во всем этом бреде точку.
И театр продолжал работать, как работал, с тем только дополнением, что билеты на все его спектакли были проданы до последнего дня сезона, а билеты на "Войну и любовь" пришлось дозаказывать в типографии. Возле главного входа и внутри служебного стояло по полицейскому, вооруженному рацией для вызова подкрепления в случае осады разными психопатами.
И вот настал вечер "Войны и любви". Никто и не заметил, как Ричард Бёрбедж оказался за своим туалетным столиком. Он гримировался. Он напевал. Он как раз подводил брови, когда дверь в его гримуборную отворилась и вошла миссис Романофф.
— Хорошо, что ты пришла, я сам хотел к тебе идти, — сказал Ричард деловым тоном, но очень дружелюбно. — Я выполнил обещание, Анна. Вот посмотри: несколько костюмов — для портного, платье для Катарины — талию подгоните под размер Айвы, там вшиты клапаны, и полюбуйся на костюм для Петруччо.
На вешалках висели костюмы из парчи и бархата, обшитые золотом и украшенные таким невероятным количеством драгоценных камней, что Анна Романофф даже испытала нечто вроде отвращения. Она обладала тонким вкусом, не любила ничего чрезмерного. Ей, человеку истинно театральному, было отвратительно все настоящее, всамделишное. Она поддалась порыву, привыкнув доверять своему первому впечатлению.
— Не нужны театру все эти наряды, — сказала она сухо, забыв поздороваться. — Спасибо, Ричард, можешь снести все это богатство в ювелирную лавку. Или в музей. В театре все должно быть театрально.
— Ты думаешь, это натуральные камни и чистое золото? — засмеялся Ричард Бёрбедж. — Что ты! Подделка. Просто, понимаешь, у нас в Падуе в шестнадцатом веке все было лучше, чем сейчас. Даже искусственные драгоценности. Представь себе! Сами платья тяжеловаты. Парча и бархат — натуральные. Но у нас синтетику, извини, еще не придумали!
Анна Романофф остановила на Ричарде тяжелый взгляд. Она не знала, как разговаривать с этим человеком. Зато знал Ричард.
— Анна, у меня к тебе одна большая просьба. Не смогла бы ты дать мне отпуск на полгода?
— На полгода? — вскричала Анна Романофф быстро, как она это умела, чтобы не отягощать сцену лишними паузами.
— Да. Меньше не выходит. Я хочу съездить к Шекспиру. Пока хорошо себя чувствую.
Анна Романофф села в давешнее кресло, о которое ударилась на позапрошлой неделе.
— Я хочу, — тихо произнес Ричард.
И, поскольку Анна смотрела на него бесстрастно, он продолжал так же деловито, но еще более внятно:
— Мне быстро удалось расширить мое производство. В Венеции у меня уже две мастерские. Я заказал корабль. Небольшую посудину в две палубы. В Англию сейчас безопаснее всего добираться морским путем, по суше мне не доехать. У нас испанцы. С севера лавиной прут австрияки. Они уже в Милане. Позавчера под Бергамо они друг с другом столкнулись. Ты не слышала? О, было что-то страшное… Но австрияки отошли, и испанцы ликуют повсюду. Тем не менее воздух дрожит от напряжения. Через испанцев мне не пробраться, хотя Родриго обещает мне дать с собой секретное оружие, которое у них уже разработано, но о котором пока никто не знает. Оно у них в единичных экземплярах. Родриго — это испанец, отличный парень, тоже портной, из Толедо. Он оставил свое дело и записался в армию, чтобы скопить на новую мастерскую. Понимаешь, приходится водить дело и с испанцами, чтобы жить спокойно. Оружие называется мушкет.
Ричарда вдруг прорвало. Потеряв серьезность, он рассмеялся. Анна Романофф наконец улыбнулась. Она никогда не разговаривала с Ричем по душам, как человек с человеком. Все о ролях, задачах, мизансценах… Рич был всегда каким-то чужим. Оказывается, он нормальный парень!
— С их мушкетом, как ты понимаешь, я далеко не уйду, — сказал серьезно Рич и тотчас опять расхохотался. — Берешь в руки тяжеленную винтовку, а чтобы она стреляла, туда надо засыпать на полок пороху. Только выстрелил — прочисти дуло специальной такой сошкой, потом засыпай новый порох, он просыпается на штаны, на пол… А если в дуле остался порох от прежнего выстрела, то в другой раз можно стрельнуть в другую сторону, в себя, в грудь. Без руки останешься. Морока. И пока перезаряжаешь, до тебя добегут, на тебя нападут и три раза укокошат без всякого пороха. А дон Родриго носится со своей тайной по всей Венеции и пугает всех до смерти новым видом вооружения, которым оснащается испанская армия!..
Рич опять засмеялся, но коротко: ему — это было заметно по глазам — не нравилась реакция Анны. Она ему не верила. Вот это-то и было не по нему. В сущности, ему на нее было наплевать. Он свой путь выбрал.
— Ну, — произнесла Анна Романофф, — приезжаешь ты к Шекспиру. Что дальше?
— Дальше? Да я с ним хотя бы познакомлюсь. Я узнаю, что это за тип такой. Я, может, и в Венецию-то больше не вернусь! Приехал купцом — остался актером «Глобуса»! Я же актер, Анна! Я хочу работать с Шекспиром! У меня же свободный английский! В Венеции и Падуе я итальянец, потому что я в образе, а чтобы быть самим собой, никем больше быть не нужно. Я должен понять, что это за человек! Да и был ли он на самом деле, понимаешь? Все же говорят, что его не было. А я узнаю.
Анну Романофф начала вдохновлять великая цель.
— Ты его спроси главное: почему в своем завещании он оставил жене кровать — и ни словом не обмолвился ни о пьесах, ни о поэмах, ни о сонетах, — сказала Анна после долгой-долгой паузы. — Вот ради чего следует отправляться в опасное путешествие по морю. Сверхзадача — понять, почему он не считал себя автором? У него что, не было авторского чувства?
Рич слушал ее точь-в-точь как на сцене, когда она из темноты зала внушала ему задачи и сверхзадачи.
— Хорошо, — вымолвил наконец он.
— Спасибо за костюмы. Они нам пригодятся, — произнесла Анна Романофф уже в дверях. — И вот что… Почему бы тебе не взять с собой пистолет? Я могу дать тебе свой.
— Я все равно никогда не решусь выстрелить в человека.
— А я, знаешь, учусь. Ты заметил, театр окружен полицией?
— Нет, я там не был.
— Где? — не поняла Анна Романофф.
— На улице, — просто сказал Рич.
— Ах, да… — смятение охватило Анну Романофф, и она поспешила выйти в коридор. — Театр прямо-таки в осаде. Я получила разрешение на ношение оружия. Я его не просила, мне предложил какой-то офицер из полиции.
Удивительно, но мысль, что Рич Бёрбедж — это, в сущности, ничтожество, серый актеришка, хотя, как оказалось, и хороший парень — перемещается в пространстве не как все, эта мысль вспыхивала в сознании, словно зарница, которой никогда не ждешь. И тогда на великую реалистку Анну Романофф обрушивался отчаянный страх. Она успевала подумать, что вот так сходят с ума. Она принималась двигаться, делать что-то простое — пить воду, смахивать пыль, закуривать… Сейчас она достала носовой платок и протирала раму у портрета Станиславского. На раме не было ни пылинки, но главный режиссер возмутилась:
— Безобразие! А я все время удивляюсь, почему на мужской половине нечем дышать!
В антракте полицейский сообщил, что ее добивается мистер Риддс. Мистера Риддса впустили.
Он нашел главного режиссера в кабинете, где когда-то сидела его жена, миссис Риддс, в огромной шляпе с пером. На предложение присесть мистер Риддс, мужчина тощий и малокровный, с роскошным рубиновым перстнем на безымянном пальце, не откликнулся. Стараясь быть немногословным, мистер Риддс протянул Анне Романофф письмо.
— Передайте это письмо Ричу, мэм. Там подписи членов всей нашей семьи. Только скажу, что мы написали.
— Не нужно мне знать, что в чужих письмах.
— Да какое же оно вам чужое? — зло парировал мистер Риддс, на глазах как-то оседая и становясь похожим на свою коренастую жену, он даже заговорил так же быстро, как она. — Вы же отказали моей жене в ее малюсенькой просьбе — вы теперь нам не чужая, извините, прошу прощения. Мы ему написали, что из-за него уезжаем из Линкольна. Пусть не приходит в дом, там будут жить другие. Мы люди простые. И мы приняли самое простое решение, которое надо было принять давным давно, а не цацкаться с ним.
— Нет, вы не простые! — быстро выкрикнула Анна Романофф. — Вы сложные! Если вы уверены, что Рич попал в беду, как же вы можете бросить его? Уедете вы, через два месяца уедет на гастроли театр — к кому же Рич придет, если что?
— А он о нас подумал, мэм? Он полагает, что этими перстеньками заслужит любовь близких ему людей? А я перстень принял потому, что жена заставила! Я колец не ношу!
— При чем тут кольца, украшения, перстни? — спросила Анна Романофф, глядя на зятя Рича с ненавистью. — Вы сказали, что уезжаете из города. Если с Ричем что-то случится, ему же некуда будет пойти! Вы от него сбегаете, бросаете его! Ричард — чудесный человек, он не способен на обман, он такой бесхитростный, открытый, он — душа нашего театра! А как любит его публика, боже мой! Я горжусь, что в нашем театре есть такой незаурядный человек! Мы все гордимся, в позапрошлом году актерская гильдия чуть не избрала его председателем комиссии по этике и нравственности! А вы его стыдитесь!
— Возьмите его себе, — вставил мистер Риддс, заставив Анну Романофф умолкнуть. — Вы, я вижу, артистка еще та. Правильно жена сказала, что с вами ни каши, ни супа не сваришь и простой селедки не почистишь. Вот и любуйтесь своим Ричардом на здоровье. А у нас в доме артистов больше нет и не будет. Мы его похоронили. Мы бежим от искусства, будь оно много раз проклято! Он нам все мозги продырявил своим искусством, своей "музыкой слова", как он говорит! Пусть он пляшет сам под эту музыку вместе с вами! А мы проживем и без нее.
— Вот теперь я вас раскусила! Я вас прекрасно поняла! — закричала Анна Романофф. — С этого бы и начинали. А то — кольца, перстни, бескорыстие… Вы — обыватели. Вы не признаете Искусства!
Мистер Риддс помялся у двери и наконец вышел.
— Обязательно передайте вашей жене, что я ни за что не сниму ее папу с роли! Пусть не надеется! — кричала ему вдогонку миссис Романофф.
Из коридора донеслось:
— Делайте с ним, что хотите! Мы его знать не знаем!
Мистеру Риддсу поменять обличье было парой пустяков. Перед тем как выйти из кабинета, он снова сделался тощим, малокровным, как мальчик. Ему даже не пришлось растворять дверь широко — он прошмыгнул в щелочку.
— Меняется прямо на глазах, мерзавец! Вот все они такие, мерзавцы двуличные! — сказала вслух Анна Романофф. — Только что был полон самодовольства, наступал и обвинял, посмел кричать на меня, я его даже испугалась, а теперь усох с расстройства. Дошло, наверное, что Искусство не зависит от таких, как он, тварей рода человеческого. Оно существует, мистер Риддс, да будет вам известно! И не в вашей власти отменить его! Оно не зависит даже от меня. Мы только служим ему. И счастлив бывает тот из нас, до кого донесся голос свыше. Не всякому дано! Ричарду повезло как наиболее достойному из нас. В конце концов, он и мне сто раз твердил о музыке, которая звучит в его душе. Но разве я, самый близкий ему человек, понимала его? Разве я услышала мелодию, которую он хотел мне подарить? Нет. Он хотел посвятить меня в нее, а я его не понимала. Я управляла человеком, под чью власть должна была подпасть. О, как я перед ним провинилась, перед этим актером! Никто из нас его не понимал. Он сейчас находится там, куда попадают избранные. Разве Станиславский не учит нас верить в роль, которую поручил нам театр? Ричард поверил — и был вознагражден. Нам с вами, мистер Риддс, там нет места…
Анна Романофф никогда еще не говорила сама с собой в полный голос. В эту минуту она впервые поняла природу монолога. Вместо радости открытия она испытала нечто вроде ужаса. Перед ней словно бы раскрылась бездна того самого, ею так любимого, Искусства.
Дна в той черной бездне не было. Реалистичное Искусство было на самом деле Мистикой! В самом деле, это же просто ужасно, когда человек говорит сам с собой, обращается к кому-то, кого рядом нет! Анна Романофф стояла в своем собственном кабинете, но вдруг потеряла его из виду. Она перенеслась в пространство, населенное семейкой Риддс, явственно видела перед собой лица дочки Ричарда, зятя, внука Джорджа, еще каких-то родственников. Но она же их не знала! Никогда их не видела! А, вот жена Ричарда, она выше его ростом, вытянутая вверх особа с оплывшими от бессонных ночей глазками… Одни слушали монолог Анны внимательно, другие усмехались. Но когда сказать ей стало больше нечего, родственники пропали — она вновь увидела свой кабинет с собой посередине.
Ее речь, обращенная к людям, которые существовали для нее, но которых не существовало больше ни для кого, привела ее к самому краю бездонной пропасти. Она даже отступила и схватилась за стол. Она закурила, чтобы вернуть себя к себе. Она привыкла быть в нашем измерении и не хотела бы попасть ни в какое другое. Бросила на стол зажигалку — письмо упало на пол. Анна Романофф подняла его, пощупала, конверт был толстый.
— Понаписали папочке прощальных беспощадных слов, осуждающих его на вечное одиночество, чтобы он мучился посильнее. Бросили папочку в бездну искусства, а сами смылись. Так вот как относятся к тем, перед кем открылось сокровенное… И я была в их числе.
Семья Риддс не появилась.
— Я-то в своем уме, — сказала вслух Анна Романофф. — В своем ли другие? Безумен тот, кто бежит от Искусства, боясь нечаянного просветления.
Положив конверт обратно на стол, Анна Романофф отправилась на сцену досматривать спектакль. Она дошла до самой сути, которая оказалась совсем нестрашной, вполне вписывающейся в земные мерки.
…Три года спустя на здании Линкольнского драматического театра появилась удивительная афиша:
СЕНСАЦИЯ! ТОЛЬКО В АМЕРИКЕ И ТОЛЬКО В ЛИНКОЛЬНЕ! ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПОКАЗ САМОЙ ПОСЛЕДНЕЙ ПЬЕСЫ ВИЛЬЯМА ШЕКСПИРА "ВЕНЕЦИАНСКИЙ КУПЕЦ"! ПЬЕСА НАПИСАНА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЛИНКОЛЬНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ТЕАТРА. В РОЛИ ШЕЙЛОКА ЛИЧНЫЙ ДРУГ ВИЛЬЯМА ШЕКСПИРА — АКТЕР ЛИНКОЛЬНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ТЕАТРА РИЧАРД БЁРБЕДЖ, КУПЕЦ ИЗ ВЕНЕЦИИ. В АМЕРИКЕ — ВПЕРВЫЕ!
БЛИЖАЙШАЯ ПРЕМЬЕРА — "КОРОЛЬ ЛИР". В РОЛИ КОРОЛЯ — ПЕРВЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ЭТОЙ РОЛИ В ТЕАТРЕ ШЕКСПИРА «ГЛОБУС» — РИЧАРД БЁРБЕДЖ.
Тогда же возобновился и памятный многим спектакль "Война и любовь", только под другим названием — "Укрощение строптивой". На три года его пришлось снять с репертуара, но теперь он повторяется каждый сезон и идет до сих пор. Однако играют его не слишком часто, чтобы не очень-то баловать публику. Приблизительно раз в месяц.
* * *
Тот, у кого нет музыки в душе,
Кого не тронут сладкие созвучья,
Способен на грабеж, измену, хитрость;
Темны, как ночь, души его движенья
И чувства все угрюмы…
В.Шекспир. "Венецианский купец", V, I.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
НАЗАРОВ Вячеслав Алексеевич (1935–1977)
НАЗАРОВ Вячеслав Алексеевич (1935–1977) Сибирский писатель В. Назаров известен как автор поэтических сборников «Сирень под солнцем», «Соната», «Формула радости». Его обращение к фантастике было обусловлено поэтической взволнованностью мировосприятия. Произведения
ПАЛЬМАН Вячеслав Иванович (Род. в 1914 г.)
ПАЛЬМАН Вячеслав Иванович (Род. в 1914 г.) Долгие годы работая агрономом в совхозах приполярного Севера, писатель хорошо узнал особенности суровой и величественной природы Сибири. Неиссякаемые богатства края и славные страницы истории его освоения вдохновили В. Пальмана
Вячеслав Яковлевич Шишков 3 октября (21 сентября) 1873 – 6 марта 1945
Вячеслав Яковлевич Шишков 3 октября (21 сентября) 1873 – 6 марта 1945 Родился в обеспеченной купеческой семье. Получил образование в Вышневолоцком техническом училище. Во время практики работал в Новгородской и Вологодской губерниях. Большое влияние на духовный облик
Вячеслав Иванов «Змеи ли шелест, шепот ли Сивиллы…»
Вячеслав Иванов «Змеи ли шелест, шепот ли Сивиллы…» Змеи ли шелест, шепот ли Сивиллы, Иль шорох осени в сухих шипах, — Твой ворожащий стих наводит страх Присутствия незримой вещей силы… По лунным льнам как тени быстрокрылы! Как степь звенит при алчущих
Вячеслав Иванов Письма о русской поэзии
Вячеслав Иванов Письма о русской поэзии Заплачка и причитанье, нашепты и наговоры, приворотные напевы и колыбельные — вся магическая символика исконной песни оказывается снова возможною в наши дни, на диво самим предсказавшим (в совпадении с выводами покойного
ВЯЧЕСЛАВ ИВА НОВ Вячеслав Иванович 16(28).II.1866, Москва — 16.VII.1949, Рим
ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ Вячеслав Иванович 16(28).II.1866, Москва — 16.VII.1949, Рим Вячеслав Иванов — одно из самых громких имен Серебряного века, одна из вершин русской культуры.В книге «История русской литературы: XX век: Серебряный век», выпущенной французским издательством «Файяр»,
ВЯЧЕСЛАВ БОГДАНОВ
ВЯЧЕСЛАВ БОГДАНОВ СТАЛЕВАР[1] 1Над краем озерным и горнымБела самолета спираль.Уральское небо просторно,Звучна родниковая даль.По скалам, по взгорьям,ДолинамРоса от восхода кипит.И слышится клекот орлиныйИ эхо лосиных копыт.Деревья кудрявятся пышно.И с терпким дымком
ВЯЧЕСЛАВ ТИМОФЕЕВ ЕСЕНИН И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗАУРАЛЬЕ
ВЯЧЕСЛАВ ТИМОФЕЕВ ЕСЕНИН И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗАУРАЛЬЕ Сергей Есенин был очень чуток в дружбе с поэтами и писателями, особенно с теми, кто шел в литературу с русских окраин.В 1918 году, рецензируя сборники пролетарских писателей, он поощрительно отозвался о стихотворениях
ВЯЧЕСЛАВ АВЕРЬЯНОВ. – НОВАЯ КНИГА ШМЕЛЕВА
ВЯЧЕСЛАВ АВЕРЬЯНОВ. – НОВАЯ КНИГА ШМЕЛЕВА 1.В прошлой своей беседе я оказался настроенным очень пессимистически. Говоря о советских «новинках», о романах и рассказах, подписанных неизвестными или малоизвестными именами, я утверждал, что все эти произведения качества
Вячеслав Иванов и кризис русского символизма
Вячеслав Иванов и кризис русского символизма В России с именем символизма связывается нечто такое, за что можно отдать жизнь и даже душу. Эллис — Брюсову, 29 апреля 1909 года Творчество акмеистов и футуристов до сих пор воспринимается как живая ценность и воздействует на
К вопросу о русской мифологической трагедии: Вячеслав Иванов и Марина Цветаева
К вопросу о русской мифологической трагедии: Вячеслав Иванов и Марина Цветаева Ты пишешь перстом на песке, А я подошла и читаю. Марина Цветаева — Вячеславу Иванову, 1920 Общеизвестно, что русские писатели Серебряного века испытывали огромный интерес к мифу. Этот интерес
ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ — «ДРУГОЙ» В СТИХОТВОРЕНИИ И. Ф. АННЕНСКОГО
ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ — «ДРУГОЙ» В СТИХОТВОРЕНИИ И. Ф. АННЕНСКОГО Во всех комментированных изданиях творческого наследия И. Ф. Анненского, осуществленных до 1990 г., об адресате стихотворения «Другому», входящего в «Кипарисовый ларец», не высказывалось никаких соображений.
ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ В НЕОСУЩЕСТВЛЕННОМ ЖУРНАЛЕ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ ИСКУССТВА»
ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ В НЕОСУЩЕСТВЛЕННОМ ЖУРНАЛЕ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ ИСКУССТВА» Участие Вячеслава Иванова в культурно-организационных начинаниях первых лет советской власти до недавнего времени оставалось на периферии внимания исследователей его жизни и творчества. Между тем