Пушкинская сказка
Пушкин не мог не написать свои сказки — то, что с детства запало в сердце поэта, рано или поздно должно было отозваться. И гений создает целый мир, а не обломки его; а мир человеческий немыслим без детства, как и детство немыслимо без сказки.
Сказки были особенно важны ему и потому, что из всей литературы они первыми проникают к людям разных сословий, и проникают рано, когда душа открыта всему высокому. В России исстари сказки любили все.
Пушкин был частым посетителем народных гуляний и ярмарок и там почти с завистью наблюдал, как жадно расхватываются сказочные лубки.
«Тогда в Москве они так же легко покупались, как изюм, орехи и моченые яблоки», — писал друг Пушкина Вяземский.
Пушкин должен был написать сказки, чтобы отдать людям то, что ему самому подарили Арина Родионовна и Мария Алексеевна, — мудрость, заключенную в волшебных образах. Чтобы «чувства добрые» входили в сознание с колыбели и не позволяли впоследствии сбиться с пути.
Это была задача такой важности, что Гоголь, узнав о завершении Пушкиным «Сказки о царе Салтане», писал Жуковскому: «Страшные граниты заложены в фундамент, и те же самые зодчие выведут и стены и купол во славу векам!»
Пушкин с восторженным удивлением записывал народные сказки, открывая в них новую и новую прелесть. Но записью не кончалась работа; тут снова надо вспомнить слова Веневитинова о гордом участии поэта.
В сказке, когда ее слушаешь, кроме повествования, есть еще и музыка тихого таинственного голоса, есть нежность, с этим голосом ниспадающая. в твое сердце.
Я трепетал — и тихо наконец
Томленье сна на очи упадало.
Как сберечь это в написанных словах, чем заменить?
Сравним записи того, что услышал Пушкин — уже взрослым — из уст Арины Родионовны и других сказителей, с его собственными сказками. Иногда эти два потока почти параллельны, но тут же они далеко расходятся.
«Царевна заблудилася в лесу. Находит дом пустой — убирает его. Двенадцать братьев приезжают, — записывал Пушкин. — «Ах, — говорят, — тут был кто-то — али мужчина, али женщина; коли мужчина, будь нам отец родной али брат названый; коли женщина, будь нам мать али сестра»...
И в «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» царевна попадает в пустой терем среди леса. И только она «всё порядком убрала», в терем входят богатыри:
Старший молвил:
«Что за диво!
Всё так чисто и красиво.
Кто-то терем прибирал
Да хозяев поджидал.
Кто же? Выдь и покажися,
С нами честно подружися.
Коль ты старый человек,
Дядей будешь нам навек.
Коли парень ты румяный,
Братец будешь нам названый.
Коль старушка, будь нам мать,
Так и станем величать.
Коли красная девица,
Будь нам милая сестрица».
Стихи следуют за записью. Но при этом в них не только воскресает домашнее и милое устного рассказа, но и появляется иное, что прежде не существовало и не могло существовать, — тайна пушкинской поэзии.
Еще одна запись Пушкина, как Султан Султанович, турецкий государь, слышит рассказ об удивительном чуде: «...У моря лукомория стоит дуб, а на том дубу золотые цепи, и по тем цепям ходит кот: вверх идет — сказки сказывает, вниз идет — песни поет».
А вот пролог к «Руслану и Людмиле»:
У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Всё ходит по цепи кругом;
Идет направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.
Прислушайтесь, как незаметно и прекрасно поэзия преображает повествование.
Читаешь незаконченную «Сказку о медведихе», и все время слышится певучий голос сказителя. Мужик убил медведиху, а «малых медвежатушек в мешок поклал». Печалится осиротевший медведь:
«Уж как мне с тобой, моей боярыней,
Веселой игры не игрывати,
Милых детушек не родити,
Медвежатушек не качати,
Не качати, не баюкати».
Старинным, почти былинным складом движется сказка. Звери приходят к вдовцу горемычному:
Прибегал туто волк дворянин,
У него-то зубы закусливые,
У него-то глаза завистливые.
Приходил тут бобр, богатый гость,
У него-то, бобра, жирный хвост.
Приходила ласточка дворяночка,
Приходила белочка княгинечка,
Приходила лисица подьячиха,
Подьячиха, казначеиха,
Приходил скоморох горностаюшка,
Приходил байбак тут игумен,
Живет он, байбак, позадь гумен.
Прибегал тут зайка-смерд,
Зайка беленький, зайка серенький.
Приходил целовальник еж.
Всё-то еж он ежится,
Всё-то он щетинится.
Будто вся тогдашняя Россия возникает в сказочной череде.
«Никогда еще ни один русский писатель, ни прежде, ни после его, не соединялся так задушевно и родственно с народом своим, как Пушкин», — сказал Достоевский.
Но и когда сказки текут параллельно устному рассказу, они не просто повторяют услышанное поэтом, не просто перелагают это в стихи.
Разве для одного лишь повторения доверена поэту судьба сказочника?
«Народность отражается не в картинах, принадлежащих какой-либо особенной стороне, но в самих чувствах поэта, напитанного духом одного народа... — говорил Веневитинов. — Не должно смешивать понятия народности с выражением народных обычаев: подобные картины только тогда истинно нам нравятся, когда оне оправданы гордым участием поэта».
Меняя установившийся исстари сюжет сказки, поэт не изменяет традициям народного творчества; тут все дело в чистоте его дара.
Ведь и лучшие сказители чаще всего передают сказку не слово в слово, а так, как она запомнилась, как соединилась с мыслью, памятью, пониманием жизни.
Множество веков существовала на земле сказка, когда впервые появились цари. И кто-то — неведомый — первым ввел в нее злого и доброго царя и красавицу царевну и первый сказал слова, сразу наполняющие тебя ожиданием необычайного: «В некотором царстве, в некотором государстве...»
Уже множество веков жила сказка, когда люди научились делать зеркала. И кто-то впервые в воображении своем создал волшебное зеркальце. Оно поселилось в сказке, будто существовало в ней вечно, рядом с избушкой на курьих ножках, родившейся гораздо раньше.
Поселившись в сказке зеркальце преображалось, пока череда сказителей не подарила ему самое главное свойство — правдивость.
Помните у Пушкина в «Сказке о мертвой царевне»:
Вот царица, наряжаясь
Перед зеркальцем своим,
Перемолвилася с ним:
«Я ль, скажи мне, всех милее,
Всех румяней и белее?»
Что же зеркальце в ответ?
Ты прекрасна, спору нет;
Но царевна всех милее,
Всех румяней и белее.»
Как царица отпрыгнёт,
Да как ручку замахнет,
Да по зеркальцу как хлопнет,
Каблучком-то как притопнет!..
Ах ты, мерзкое стекло!
Это врешь ты мне назло».
Да, не легко быть правдивым. Но на то и сказка, чтобы научить нас преодолевать все испытания...
А еще задолго до создания зеркала люди приручили коня. Первый волшебный конь, пращур Конька-горбунка, вошел в сказку привычно, как в теплое стойло, будто и всегда был там, покосил умным глазом на хозяина, разгадал его сердце и стал верно служить.
Гордое свое участие, опыт жизни, веселую, а то и горькую усмешку, а то и слезы внесли в сказку тысячи неизвестных сказителей. И Пушкин не изменил древней традиции. Он только шагал по этой же дороге семимильными шагами, как пристало гению...
Теперь, когда приближается окончание главы, пора вернуться к спорам о пушкинской сказке.
Записать сказки, пришедшие из далекого прошлого, слово в слово, как требовали некоторые критики, дело ученых — фольклористов, этнографов. И этот великий научный труд, как мы знаем, при Пушкине и еще в допушкинские времена сам собой начался по всей стране.
Словарь и собрание пословиц Даля, собрание песен Киреевского, собрание сказок Афанасьева — все это завершало первый этап работы, не имеющей, в сущности, конца; ведь и словотворчество никогда не прекратится. Наука следовала главному для нее условию — точности. Поэзия избрала другой, единственно для нее возможный путь — творчества; пожалуй, отношение поэзии к народной сказке глубже всех определил Веневитинов.
Пушкин, как и до него несчетный ряд безымянных сказителей, внес в сказку идеи, которыми жил, свой опыт, видение жизни и свой поэтический гений. Для него, как и для народных сказителей, сказки были не просто собранием занимательных сюжетов, а драгоценным выражением и общечеловеческой мудрости, накопленной столетиями и столетиями выверенной, и собственного жизненного опыта.
С народной мудростью мысль и душа поэта соединяются так, чтобы ничто выстраданное людьми не потерялось. В естественности соединения творчества поэта со стихией народного творчества — величайшее чудо пушкинской сказки.
Когда цари вошли в сказку, образ этот вобрал в себя и черты корыстной жадности, вздорного властолюбия.
Вот и царь Дадон сластолюбив и жесток; как Александр Первый предал сподвижников первых лет царствования, как Николай Первый казнит декабристов, с тем же нечеловеческим равнодушием Дадон, только увидел Шамаханскую царицу,
И забыл он перед ней
Смерть обоих сыновей.
Царь лжив. Пушкин ощущал не только обман окружающего, но и призрачность, обреченность того, что на этом обмане возникает. Дадон обманул скопца.
Вдруг раздался легкий звон,
И в глазах у всей столицы
Петушок спорхнул со спицы:
К колеснице полетел
И царю на темя сел,
Встрепенулся, клюнул в темя
И взвился... и в то же время
С колесницы пал Дадон —
Охнул раз, — и умер он.
А царица вдруг пропала,
Будто вовсе не бывало.

И так же, «будто вовсе не бывало», развеивается добытое одной лишь жадностью в «Сказке о рыбаке и рыбке».
Помните?
«Захотела старуха, которую золотая рыбка сделала царицей, стать владычицей морскою. Ничего не сказала рыбка». Воротился рыбак домой.
Глядь: опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха,
А пред нею разбитое корыто.
«Сказка о золотом петушке» завершает сказочный мир Пушкина. Но и в «Медном всаднике», последней его поэме, как и в сказке, грозно звучит пророчество зыбкости того, что куплено страданиями людей.
Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь остервенясь,
На город кинулась.
Пред нею Все побежало; все вокруг
Вдруг опустело...
Не только бешенство природы возникнет в воображении. Волны окрашиваются кровью.
Гроба с размытого кладбища
Плывут по улицам!
Народ
Зрит божий гнев и казни ждет.
Наводнение — напоминание о замученных; они похоронены не на кладбище, стали частью земли, которую попирает «кумир на бронзовом коне». И никогда не успокоится эта земля.
Царь Дадон замыкает ряд враждебных человеку образов. В ряду этом завистливые сестры и сватья баба Бабариха, и поп, толоконный лоб, и царица, для которой нет ничего дорогого, кроме собственной красоты. О всех них можно сказать пушкинской строкой: «Вы равнодушны, злы, коварны». Это чернь; вряд ли есть в языке еще такое же несказочное слово, но иного не подберешь.
Образы зла возникают и в других произведениях поэта, и прежде всего в «Маленьких трагедиях».
Скупой рыцарь, склонившись над грудами золота, рассказывает себе нечто вроде сказки — безжалостной, как его душа:
«... Читал я где-то,
Что царь однажды воинам своим
Велел снести земли по горсти в кучу,
И гордый холм возвысился — и царь
Мог с вышины с весельем озирать
И дол, покрытый белыми шатрами,
И море, где бежали корабли.
Так я, по горсти бедной принося
Привычну дань мою сюда в подвал,
Вознес мой холм — и с высоты его
Могу взирать на всё, что мне подвластно.
Что не подвластно мне? как некий демон
Отселе править миром я могу;
Лишь захочу — воздвигнутся чертоги;
В великолепные мои сады
Сбегутся нимфы резвою толпою;
И музы дань свою мне принесут,
И вольный гений мне поработится,
И добродетель и бессонный труд
Смиренно будут ждать моей награды.
Я свистну, и ко мне послушно, робко
Вползет окровавленное злодейство,
И руку будет мне лизать, и в очи
Смотреть, в них знак моей читая воли.
Мне всё послушно, я же — ничему...»
Неутолимая страсть скупца. Но уже близка смерть... «Вольный гений» не поработится, а передаст грядущим поколениям страшный, но и жалкий образ того, кто все человеческое в себе отдал за призрачную власть над миром.
В трагедии «Моцарт и Сальери», отвергая слух, что Бомарше кого-то отравил, Моцарт говорит Сальери:
Он же гений,
Как ты да я. А гений и злодейство —
Две вещи несовместные. Не правда ль? —
Ты думаешь? —
отвечает Сальери, бросая яд в стакан Моцарта.
Пушкин убежден, что гений и злодейство несовместимы; устами Моцарта говорит сам поэт. Зло может убить гения, но оно обречено. И истинная красота тоже несовместна со злом.
Мир пушкинских сказок гармоничен и прекрасен тем, что ненависть, корысть, зависть, тирания — все зло людского существования в этом мире — презренны и обречены гибели. Всегдашнее торжество истинной разумности роднит пушкинские сказки со сказками народными гораздо больше, чем сходство сюжета.
Первоначальное в жизни не зло, а материнская любовь, и вообще любовь; первым ребенок произносит слово «мама» — самое нежное на земле, первые его ощущения — тепло рук матери.
Солнечный луч и море, самое синее и безбрежное из всех поэтических морей, красота природы и женская красота, увиденные как бы впервые, освещают пушкинские сказки.
И тем самым — нашу жизнь.
... Старуха осталась «у разбитого корыта». А старик рыбак? Он, как и прежде, будет жить «у самого синего моря». И если снова попадется в его сеть золотая рыбка, он поступит как в первый раз.
Отпустил он рыбку золотую
И сказал ей ласковое слово:
«Бог с тобою, золотая рыбка!
Твоего мне откупа не надо;
Ступай себе в синее море,
Гуляй там себе на просторе».
Рыбак и природа — одно, и в этом счастье рыбака.
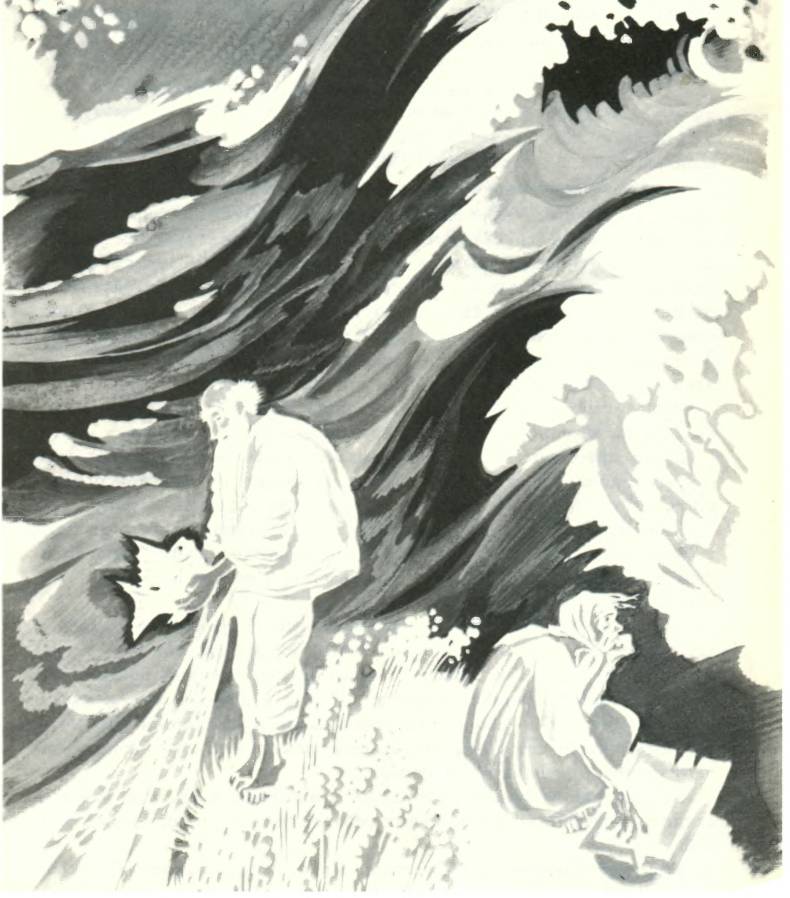
В пушкинских «Сценах из рыцарских времен» Бертольд, посвятивший жизнь науке, говорит богатому купцу Мартыну:
«— Золота мне не нужно, я ищу одной истины.
— А мне черт ли в истине, мне нужно золото», — отвечает Мартын.
Бертольд и Мартын, как рыбак и его старуха, — в них воплощена вековечная борьба истины и корысти. Золото кажется иногда всесильным, но, говорит Пушкин, это только временное и обманное могущество.
Человек — часть природы, и природа придет на помощь человеку, если он в согласии с ее мудростью. Из моря выйдут к Гвидону «в чешуе, как жар горя, тридцать три богатыря», чтобы верно ему служить. И с ними царевна Лебедь.
Из сказки в сказку переходит поэтическая тема торжества любви. В «Сказке о мертвой царевне» неутешный королевич Елисей скачет по белу свету, ищет невесту:
И кого ни спросит он,
Всем вопрос его мудрен;
Кто в глаза ему смеется,
Кто скорее отвернется...
Только ветер помогает влюбленному.
...«Постой, —
Отвечает ветер буйный, —
Там за речкой тихоструйной
Есть высокая гора,
В ней глубокая нора;
В той норе, во тьме печальной,
Гроб качается хрустальный
На цепях между столбов.
Не видать ничьих следов
Вкруг того пустого места;
В том гробу твоя невеста».
Пошел королевич, куда указал ему ветер, «на прекрасную невесту посмотреть еще хоть раз». Увидел — «спит царевна вечным сном». И в отчаянии
... О гроб невесты милой
Он ударился всей силой.
Гроб разбился
... Дева вдруг
Ожила. Глядит вокруг
Изумленными глазами...
Красота жизни, гордое торжество разумности, добра, любви рано входит в сознание — и не одного человека, а в сознание народа, человечества — вместе со сказками Пушкина и других великих сказочников. И до Пушкина были в России замечательные сказки. Но не каждому дано начинать жизнь «под шепот старины болтливой». Иные сказки доживали свой век только в одной деревне, даже в одной, покосившейся, вросшей в землю избе, затерянной среди лесов и полей. С явлением Пушкина страна — прежде всего дети страны, но не они одни — услышала сказку, всем близкую и внятную.
Общее счастливое переживание вошло в судьбу не одного ребенка, и даже не одного только поколения — в детство народа.
Будто вместе со своим гениальным поэтом народ впервые всей грудью вздохнул, и уже второе столетие воздух пушкинской правды струится от человека к человеку — от матери к дочери и сыну.
Пушкин завершил многовековый труд создания живого литературного языка. Но язык — не простое собрание слов, подобное наваленным в сокровищнице драгоценным камням. Главное в словах — что они живые и связаны между собой.
Как в географическом пространстве есть направления — север и юг, восток и запад, — без них человек блуждал бы, так и в «нравственном пространстве» языка, в каждом нравственном понятии существуют направления к правде и ко лжи, к добру и злу, к любви и ненависти; одни — общие для всех языков и всех стран, другие — продиктованные историческим опытом различных эпох общественного развития именно этого народа.
Постижение направлений главных нравственных понятий впервые входит и утверждается в сознании ребенка вместе с пушкинской сказкой.
Младший современник Пушкина Иван Александрович Гончаров почти столетие назад писал: «Я по летам своим старше всех современных писателей; принадлежу к лучшей поре расцветания пушкинского гения, когда он так обаятельно действовал на общество, особенно на молодые поколения. Старики еще ворчали и косились на него, тогда как мы все падали на колени перед ним... 15—16-летним юношам приходилось питаться Державиным, Дмитриевым, Озеровым, даже Херасковым... И вдруг Пушкин...»
Мы счастливее школьника Гончарова. С детства к нам приходят лучшие писатели нашей страны и всего мира — от Андерсена и Диккенса до Толстого, от Сервантеса до Чехова.
И все-таки, вступая в пушкинскую поэзию, вначале в сказки его, потом, тоже на всю жизнь, в мир «Цыган» и «Бахчисарайского фонтана», «Бориса Годунова» и «Евгения Онегина», в мир «Медного всадника» и пушкинской лирики, мы каждый раз заново испытываем ни с чем не сравнимое чувство восторга и благодарного преклонения перед светлым гением; то чувство, которое Гончаров выразил в простых словах:
И вдруг Пушкин...

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК