Из наблюдений над стихами Бориса Пастернака[**]
Из наблюдений над стихами Бориса Пастернака[**]
1. «Сумерки… словно оруженосцы роз…»
«Сумерки… словно оруженосцы роз…» — одно из самых ранних стихотворений Пастернака, известных исследователям. Написанное, видимо, около 1909 года, оно вошло в сборник «Лирика» (1913) и при жизни автора не перепечатывалось. В ту пору Пастернак еще был тесно связан с символизмом — не только мировоззренчески, но и в смысле конкретной, подлежащей преодолению литературной школы. Читатель, знакомый со зрелым творчеством Пастернака, прежде всего отметит «нехарактерность» этого стихотворения. Автор здесь еще погружен в чужую (символистскую, неоромантическую) образность и стилистику, в поэтическую атмосферу начала века или даже конца предыдущего века. Однако стихи эти замечательны по крайней мере в двух отношениях. Во-первых, при всей их неясности они очень строго (бинарно и иерархически) построены. Во-вторых, на них наглядно прослеживается, как Пастернак отходит от символистского письма. По верному замечанию Константина Локса, в стихотворении «можно легко установить, где начинается „свое“ и кончается „чужое“. Чужое — это эпоха, ее изысканность, налет эстетизма и употребление слов не в собственном смысле. Свое — тема, стремящаяся выбиться наружу и из скрещения слов создать, если не самое тему, то ее „настроение“»[671]. Этот постепенный переход обнаруживается в чисто линейном плане: начиная с «общепоэтического», Пастернак к концу стихотворения обретает собственный голос. Строй стихотворения можно определить как «нащупывание» темы, ритма и стиля.
Текст стихотворения отчетливо делится на две части. В первых двух строфах речь идет о сумерках и розах; в последних двух — о двух иноходцах (иноходь, по Далю, есть «конская побежка, в которой лошадь заносит обе ноги одного бока вместе, тогда как в рыси ноги движутся по две разом, крест-накрест»). Части различаются как по смыслу, так и по ритмике, тональности и системе тропов: в первой преобладает метафора (причем традиционная, клишированная), во второй метонимия (причем индивидуальная, пастернаковская). Можно было бы сказать, что в первой части господствует поэтика вид?ния, во второй — поэтика в?дения. Обе части, в свою очередь, делятся пополам. Перекликается начало первой и второй строфы («Сумерки… словно оруженосцы роз» и «Сумерки — оруженосцы роз»). Этот (неточный) повтор подчеркнут «метасловом» повторят (в шестой строке), описывающим структуру вещи. Далее, пополам делится и первая строфа (неточный повтор «Сумерки — Или сумерки»). Наконец, внутри строф есть свои фонетические, иногда и морфологические двойчатки (кот?рых… к?пья, плеч?ми… печ?ль, повторят путей, отклонят откос и др.). Во второй половине стихотворения продолжается та же игра. Третья строфа начинается с «метаслова» двух, подхватывающего мотив зеркальности, двойничества, повторения. Затем идет точный повтор («Тот и другой — Тот и другой») и неточный повтор («Топчут полынь — Тушит полынь»). Заметим, что они здесь расположены иначе, чем в первой половине. Связываются не зачины строф, а середина третьей строфы с началом четвертой; последняя (четвертая) строфа, как и первая, делится пополам, но повтор обнаруживается не в начале, а в конце нечетных строк, образуя своего рода глубокую рифму. Таким образом строгая симметрия дополняется и преодолевается асимметрией. Разумеется, и во второй половине текста есть двойчатки, хотя и менее очевидные (тусклые ткани, гл?бже во мгл?). Можно сказать, что все стихотворение пронизано мотивом близнечества (ср. название первого сборника Пастернака «Близнец в тучах»). Различными лингвистическими средствами в нем создается айкон «двух иноходцев», «сменного череда» и самой иноходи («обе ноги одного бока вместе»), отсылающий к близнечному мифу, как известно, сопряженному с мифологемой коней[672]. Миф этот был значимым для многих русских символистов.
Таким образом, стихотворение «Сумерки… словно оруженосцы роз…» основано на принципе параллелизма, а не на характерном для зрелого Пастернака принципе потока речи (в терминах Ю. Лотмана, оно строится парадигматически, а не синтагматически). Но в синтагматическом плане в нем отмечен уже упоминавшийся процесс «нащупывания». Он отчетливо проводится ритмически. Текст начинается с ритмически «невнятной» строки с четырехсложным безударным промежутком в центре (кстати, подобные длинные безударные промежутки позднее станут как бы ритмической эмблемой Пастернака). Затем идет строка анапеста, логаэдическая строка (комбинация анапеста с ямбом) и строка амфибрахия. Вторая строфа ритмически строже. Наконец, с 11-й строки устанавливается единый ритм — нечетные строки вида —
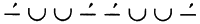 и четные строки правильного трехстопного дактиля с женской клаузулой (кстати говоря, некоторая дактилическая инерция в стихотворении задана первым его словом сумерки). Этот ритм закономерного, четкого движения противостоит ритму «извивов» и «откосов», характерному для первых двух строф. К концу стихотворения также возникает стремление к панторифме и появляется тавтологическая рифма (полынь — полынь).
и четные строки правильного трехстопного дактиля с женской клаузулой (кстати говоря, некоторая дактилическая инерция в стихотворении задана первым его словом сумерки). Этот ритм закономерного, четкого движения противостоит ритму «извивов» и «откосов», характерному для первых двух строф. К концу стихотворения также возникает стремление к панторифме и появляется тавтологическая рифма (полынь — полынь).
Подобным же образом нащупывается тема. Вначале традиционные (и расплывчатые) образы создают некую таинственную картину в духе прерафаэлитов. Сумерки и розы — любимые мотивы романтизма, декаданса и символизма. Медиативное время и амбивалентный растительный символ у Пастернака даны в характерном «средневековом» контексте, отсылающем к рыцарству, культу Дамы и т. д.: ср. несколько более позднее мандельштамовское стихотворение «Я не слыхал рассказов Оссиана…» (1914), где те же слова, что у Пастернака, даны в рифменной позиции: «И перекличка ворона и арфы / Мне чудится в зловещей тишине; / И ветром развеваемые шарфы / Дружинников мелькают при луне!» При этом возникающая картина сдвинута и неясна (что соответствует мотиву «сумерек»). Сдвиг наблюдается, в частности, на грамматическом уровне. (Устраняется множественное собирательное: состояние природы становится как бы группой, сумерки распадаются на множество оруженосцев. Далее, копья и шарфы, видимо, есть простая метафора (шипы и лепестки роз), но фраза построена так, что копья и шарфы скорее могут быть отнесены не к розам, а к сумеркам. Менестрель врастает в печаль (психологическое состояние опредмечивается), причем это «врастание» дано и на фонетическом уровне («с плечами в печаль») и т. д.
Вторая строфа динамичнее и несколько яснее. Сравнение сумерек с оруженосцами превращено в отождествление. Извивы роз (речь, по-видимому, идет о том, что розы вьются по стене) трансформируется в путей их извивы, т. е. розы метафорически даются как рыцари, всадники, движущиеся по извилистой дороге, причем оруженосцы подхватывают это движение. Отклоняется, видимо, диагональ (откос) плаща, но предлог за создает очередной грамматический сдвиг. Называя рыцарский плащ альмавивой, Пастернак допускает неточность (слово альмавива, вошедшее в язык только после Бомарше, не имеет отношения к средневековью), но не исключено, что этот сдвиг во времени также намеренный, способствующий созданию «сумеречной» атмосферы стихотворения.
В третьей строфе из группы «рыцарей» и «оруженосцев» выделяются двое. Тем самым определяется эротическая тема, отмеченная Локсом. Конь и скачка на коне — древняя, широко распространенная метафора любовной близости, любовного соединения. Это соединение есть одновременно и разъединение, разлука. Согласно Локсу, фраза «На одном только вечер рьяней» «обозначает страсть, явно выраженную у одного и очевидно менее сильную у другого — другой»[673]. Напрашивается иное истолкование (впрочем, не противоречащее первому): в сочетании слов вечер рьяней даны два смысловых признака — интенсивность и близость к закату (смерти). Происходит характерное для эпохи сближение Эроса и Танатоса: страсть оборачивается затуханием, уходом в ночь, наконец — в последней строфе — остановкой сердца. Кстати, здесь легко увидеть и типичнейший пастернаковский мотив растворения в космосе, исчезновения субъекта. Тема как бы выступает из сумерек (и при этом может быть парадоксально обозначена как «погружение в сумерки»). Это движение темы проведено и на звуковом уровне (ударное о сменяется более глубоким и низким ударным у: «Т?т и друг?й. Т?пчут полынь — Гл?бже во мгл?. Т?шит полынь»).
При этом найдена не только тема, но и собственный пастернаковский стиль. Фраза «Их соберет / Ночь в свои тусклые ткани» есть еще «чужое слово», символистское олицетворение, символистское метафорическое клише. Но параллельные ей фразы «Топчут полынь / Вспышки копыт порыжелых» и «Тушит полынь / Сердцебиение тел их» предвещают зрелого Пастернака. В них даны переносы не по сходству, а по смежности: топчут не копыта, а вспышки (высекаюших огонь копыт), бьются не сердца, а тела (ср. знаменитое «Лодка колотится в сонной груди» в стихотворении «Сложа весла»). Даны и другие характерные пастернаковские приемы: тонкий оттенок цвета, как бы заключающий в себе его историю (порыжелых), синестетическая образность (исчезновение звука описано как исчезновение света — полынь тушит сердцебиение)[674]. Стихи, начатые как подражание, заканчиваются на собственной, глубоко оригинальной ноте.
2. «Лирический простор»
Стихотворение, вошедшее в сборник «Близнец в тучах» (опубликованный в декабре 1913 года), типично для так называемого футуристского периода Пастернака и неоднократно служило предметом пристального рассмотрения[675]. Ключ к нему справедливо усматривают в статье Сергея Боброва «О лирической теме» и в письме Пастернака Боброву от 25–27 сентября 1913 года (Боброву стихотворение и посвящено)[676]. Сложность стихотворения заключается прежде всего в мерцании смыслов, переливании друг в друга различных смысловых планов. Речь идет по крайней мере о трех семантических рядах: о воздушном шаре (монгольфьере), о некоем городе, изображенном в духе кубистических картин, и о музыке. При этом воздушный шар почти отождествляется с городом (посылая стихотворение Боброву, автор писал, что «образ города на привязи, срывающегося в осеннее плаванье, проведен в нем неясно»[677]). Музыку легко интерпретировать как субститут поэзии: по-видимому, стихотворение повествует также о творческом процессе, о своем собственном «отрывании от земли», возникновении из хаоса (что для Пастернака вообще весьма типично). При этом не всегда ясно, «что является метафорой чего»[678]. Заметим, что в конце стихотворения выделяется еще один план, связанный с семантикой степи и крепости (беркут, твердынь, карантин). Простор, выступающий в названии вещи (которое, в свою очередь, есть цитата из статьи Боброва), станет важнейшей категорией для зрелого творчества Пастернака: ср., в частности, название его позднего сборника «Земной простор». Следует сказать, что язык пространства для Пастернака, как и для многих других писателей (в том числе его современников), оказывается привилегированным языком, которым может передаваться содержание, относящееся и к философии, и к истории, и к лирике.
Несколько наблюдений, возможно, позволят более точно определить тему и «пространственный адрес» стихотворения и вскрыть некоторые дополнительные семантические его пласты.
Сын поэта отмечал, что в «Лирическом просторе» отразился, в частности, семейный рассказ о полете Михаила Фрейденберга над Одессой на воздушном шаре в 1881 году, за девять лет до рождения поэта[679]. Монгольфьер, повисающий между землей и «брезжущим тентом» неба, преодолевает силу тяготения, плен и ограниченность земного бытия, становится лирическим медиатором, объединяющим нижний и верхний миры (а также читателя и поэта, как лестница или радуга в статье Боброва). Отметим, что эта тема проведена и на фонетическом уровне. В стихотворении подчеркнуты «высокие» гласные переднего ряда. В первой его строфе преобладают ударные е (их семь из двенадцати ударных гласных), причем на е построены все рифмы (барь?ра — брез?нт — мон-гольфь?ра — т?нт). Этот же звук повторяется в рифмах трех следующих строф (каланч? — свеч?; скр?пы — скл?па; поднеб?сий — в?рвь — пол?сий — в?рфь); он исчезает в пятой строфе, но в шестой появляется опять, в том числе и в рифме, где чередуется с еще более высоким ударным и (беркут — карантин — померкнут — один). Кстати, ударные и доминируют в шестой (последней) строфе так же, как е доминировали в первой (их семь). Весь этот звуковой рисунок можно соотнести с мотивом взлета[680].
Монгольфьер у раннего Пастернака встречается и в стихотворении «В пучинах собственного чада» («Я привиденьем Монгольфьера, / Принесшего с собой ладью, / Готард, являя призрак серый, / Унес долины в ночь свою»). Здесь воздушный шар отождествляется с альпийским перевалом. Основание отождествления — семантические признаки выпуклости, круглости, а также положения над долинами. Таким же образом в «Лирическом просторе» монгольфьер соотносится с городом — круглящимся, вздувающимся («Парусиною вздулся асфальт»), расположенным над наблюдателем («Чердаки и кресты монгольфьера»). По-видимому, это холмистая Москва, родной город и постоянная тема Пастернака. Более того, есть основания полагать, что описывается конкретное место Москвы, а именно Кремль.
По времени написания «Лирический простор» близок к другим стихотворениям Пастернака, посвященным Кремлю («Об Иване Великом», «Мельхиор»). Ранней осенью 1913 года Пастернак снял комнату у въезда в Лебяжий переулок. «Ее окно выходило на Кремль и Софийскую набережную, поверх деревьев Александровского сада, который в этом месте был гораздо шире теперешнего»[681]. Кремль смотрится как выпуклый холм (ср. у Мандельштама — «На Красной площади всего круглей земля» в стихотворении «Да, я лежу в земле…»). С воздушным шаром могут ассоциироваться и купола его соборов. Наконец, в третьей строке стихотворения легко усмотреть анаграмму слова Кремль (кресты монгольфьера).
Стихотворение «Мельхиор», описывающее отражение Кремля в речной воде, совпадает с «Лирическим простором» по строфике, метру (трехстопный анапест с чередующимися женскими и мужскими рифмами) и некоторым мотивам (утро, пожар и т. п.). В. С. Баевский не без оснований считает оба произведения «двойчаткой». По его словам, «Мельхиор» «представляет собой, условно говоря, перевод Пастернаком на язык Хлебникова своего же стихотворения „Лирический простор“, написанного ранее и включенного в книгу „Близнец в тучах“. Воздушный шар монгольфьер, поднимающийся ввысь в „Лирическом просторе“, заменен фонетической метафорой „Мельхиор“ (tertium comparationis{19} здесь — звуковое сходство слов монгольфьер и мельхиор)»[682]. Следует заметить, что слово мельхиор («серебристо-белый сплав меди с никелем») является также фонетической метафорой (и анаграммой) слова кремль, которое, по всей видимости, и является здесь tertium comparationis.
В этом контексте заново прочитываются многие детали «Лирического простора». Так, слова «в плененье барьера» могут относиться к стенам Кремля, окружающим его «чердаки и кресты». Вторая строфа как бы развивает характерную пастернаковскую тему о сближении (и одновременно расставании) большого мира, представленного (утренним) пожаром, каланчой и далями, и малого, интимного, комнатного мира, представленного свечой. Однако не исключено, что и каланча и свеча относятся к одному объекту, а именно к колокольне Ивана Великого, послужившей темой стихотворения «Об Иване Великом»[683]. Опал в этом случае расшифровывался бы как ее блестящий купол. Слова «накатом стократного склепа» могут соотноситься со множеством (сотней) кремлевских гробниц.
С Кремлем естественно сопрягаются темы музыки (пения, колокольного звона) и религии (ср. «блуждающий ангел»). Однако следует сказать, что переплетение семантических нитей в стихотворении выходит за пределы традиционных музыкально-религиозных мотивов, развиваемых, скажем, в близких по времени стихах Мандельштама и Цветаевой. В третьей строфе скрепы монгольфьера превращаются в струны, а сам он — в высокий поющий голос («стонущий альт»); в четвертой строфе голос — по смежности — трансформируется в инструмент, а струны — в веревки корабля («Якорями напетая вервь»)[684]. Кстати, якоря могут ассоциироваться с нотами, в том числе с «православными крюками» церковного пения. Это мерцание смысла осложняется мотивом полесий (полесье, по Далю, есть «мелкий лес»), окружающих туманную верфь. По сложности семантических переливов (монгольфьер — струнный инструмент — голос — корабль — кораблестроение — утренний пейзаж) эти центральные строфы выделяются даже на фоне других ранних стихов Пастернака. Мерцание перебрасывается и дальше. С появлением журавлей («Журавлями налажен, триангль») вводится семантика птиц и птичьего полета, далее поддержанная мотивом беркута и крыл. Звенящий триангль (соотнесенный с тревогою хорд в следующей строке) может интерпретироваться посредством нескольких кодов[685]. В орнитологическом коде это треугольник курлыкающих журавлей; в техническом коде журавли прочитываются как рычаги, а триангль — как треугольник канатов воздушного шара; в музыкальном коде речь идет об инструменте. В письме Боброву Пастернак заметил: «Между прочим, триангль — музыкальный треугольник в большом оркестре»[686] (здесь существенны слова между прочим, указывающие на возможность — и необходимость — других прочтений). Рискнем предложить еще одну интерпретацию: триангль — это Кремль (как известно, треугольный в плане), а хорды — ведущие к нему улицы. Утренний пейзаж полесий и верфи в этом случае приобретает точный адрес (Кремль расположен между Александровским садом и рекой). Дополнительный аргумент в пользу такого прочтения можно усмотреть в сходстве звукового строения слов Кремль и триангль (а также Кремль, вервь и верфь). Едва ли не каждое слово в этом месте играет тремя или четырьмя одновременными и равновозможными смыслами (хотелось бы сказать — выстраиваются «триангли и квадрангли» смысла).
Кстати говоря, сравнение Кремля с кораблем (причем именно с кораблем, «срывающимся» в плавание) проведено в стихотворении Пастернака «Кремль в буран конца 1918 года», вошедшем в книгу «Темы и вариации» (1923): «А иногда! — А иногда, / Как пригнанный канатом накороть / Корабль, с гуденьем, прочь к грядам / Срывающийся чудом с якоря…». Связь с образами и словарем «Лирического простора» здесь представляется достаточно очевидной (ср. также «Непогод обезбрежив брезент — За морем этих непогод»).
Шестая, итоговая строфа привносит в «Лирический простор» новые оттенки смысла. Беркут — птица степного простора; здесь можно вспомнить традиционное восприятие Москвы (в ее оппозиции к Петербургу) как «неевропейского» города, а Кремля — как крепости (твердыни) на краю степи. Упоминание карантина, возможно, отсылает к теме Пушкина, который для Пастернака, как и для всей его эпохи, был поэтом par excellence. Слово вспылишь в этом случае также поворачивается многими смысловыми гранями: это контаминация слов всплывешь и взлетишь, но в нем присутствуют также намеки на степную пыль и на пылкий, вспыльчивый характер поэта. «Кубистическое» стихотворение о выходе в простор, о творческом взлете поражает своей вместимостью, своим семантическим простором, своей «кубатурой».
3. Два негатива
Речь на этот раз пойдет о двух хорошо известных и характерных для Пастернака стихотворениях — «Июльская гроза» и «Памяти Демона». Мы не будем их подробно анализировать. Обратим внимание только на некоторые их свойства — прежде всего на то, которое, пожалуй, можно назвать «установкой на инвертированность». Оба стихотворения явно соотносятся с традицией русской поэзии и прочитываются на ее фоне. Они проецируются на общеизвестные тексты — «Июльская гроза» имплицитно, хотя и вполне ощутимо, «Памяти Демона» эксплицитно. Однако оба отрицают свои подтексты по многим параметрам, строят к ним некоторые «антитексты». По-видимому, это вообще важный для Пастернака поэтический принцип.
«Июльская гроза» (1915) входит в сборник «Поверх барьеров», опубликованный в 1916 году. Свою окончательную форму (восемь строф) стихотворение обрело во втором издании сборника (1929). Это едва ли не первое произведение Пастернака на существенную для него тему (ср. «Наша гроза», «Гроза, моментальная навек», «Приближенье грозы», «После грозы» и др.). Оно связано с небольшим циклом «Три варианта», который в издании 1929 года ему непосредственно предшествует.
Название стихотворения ориентировано на «Весеннюю грозу» Тютчева. Тютчевские подтексты, как известно, обнаруживаются во множестве стихов раннего Пастернака. Однако «Июльская гроза» почти во всем, начиная с названия, противостоит знаменитому тютчевскому тексту. Речь идет не просто о разнице романтической поэтики XIX века и авангардистской поэтики XX: «Июльская гроза» очевидно рассчитана на то, чтобы восприниматься в оппозиции к своей предшественнице. Продолжая метафору Пастернака («Сто слепящих фотографий / Ночью снял на память гром» — «Гроза, моментальная навек»), можно было бы сказать, что он дает в стихотворении как бы негатив «Весенней грозы», обращенный ее вариант.
Это заметно уже на чисто формальном уровне. Стихи написаны тем же четырехстопным ямбом, что и «Весенняя гроза», но с обращенным порядком женских и мужских клаузул. Обращена и основная семантическая тема. В отличие от Тютчева, Пастернак описывает не грозу, а ее напряженное ожидание, завершающееся взрывом. При этом время как бы вывернуто наизнанку: в календарном цикле тютчевская гроза предшествует пастернаковской, но в «текстуальном времени» дело обстоит наоборот — стихотворение Пастернака заканчивается на той точке (появление грозы), где у Тютчева оно начинается. Оживленная картина Тютчева заменена тревожной и мрачной. Следует заметить, что действие у Тютчева происходит не в России (где грозы в мае крайне редки), а в некоем обобщенном горном европейском ландшафте; у Пастернака гроза русская, изображенная в конкретном пространственном и временном контексте (дачная жизнь; военные учения, связанные с началом Первой мировой войны).
Отметим очень характерную для Пастернака (и отсутствующую у Тютчева) смысловую оппозицию «Июльской грозы»: статика домашнего бытия противопоставлена динамике космоса. Домашняя жизнь здесь обладает отрицательными коннотациями (что у Пастернака бывает далеко не всегда): это застывшее, оцепеневшее, предсказуемое время («Стоит на мертвой точке час»), которое будет отменено ударом грозы. Слова и метафоры для описания «быта» берутся из анатомически-медицинского семантического ряда («желчь моя не разлилась»; «у меня на месте печень»), который метонимически переносится и на природу; для описания приближающейся грозы используется военная семантика (в лагере грозы, строясь в батальоны, лагерь мрака). Впрочем, оба ряда окрашены библейскими (ветхозаветными) реминисценциями; можно также заметить, что ключевое слово удар прочитывается в обоих кодах — медицинском и военном. В строках «Не отсыхает ли язык / У лип, не липнут листья к небу ль» (с их великолепной звуковой игрой) кроме очевидного библейского подтекста присутствует фоносемантический подтекст еще одного стихотворения Тютчева — «Не то, что мните вы, природа» («Не слепок, не бездушный лик /…/ В ней есть любовь, в ней есть язык»).
Мотив грома (это слово дважды, с вариацией числа и падежа, повторено в «Весенней грозе», поддержано в ней глаголом гремят и эпитетом громокипящий) у Пастернака дается лишь фонетическими намеками (грудиться, грызть и т. п.). Это соответствует теме отдаленной грозы. Подхватывается тютчевская игра на слове гам, но в измененном виде: у Тютчева гам повторяется в соседних строках, участвуя в фигуре хиазма, у Пастернака его эхо слышно в наречии там, расположенном в той же строке[687]. Другое слово «Весенней грозы», присутствующее и у Пастернака, — раскаты; но любопытно, что глагол золотит, употребленный Тютчевым в той же фразе, заменяется у Пастернака словами в серебре (предложный падеж существительного). Подобных примеров тонкой игры с тютчевским подтекстом можно было бы привести и больше.
Наиболее любопытен, пожалуй, тот факт, что стихотворения Тютчева и Пастернака сходны по композиции. И в одном, и в другом гроза, вначале изображенная «реалистически», затем превращается в мифологическую фигуру. Более того, окончательный вариант «Июльской грозы» ровно вдвое длиннее, чем «Весенняя гроза», но делится на «пейзажную» и «мифологическую» части в той же пропорции (3:1). И радостная гроза Тютчева, и властная гроза Пастернака ассоциируются с юным женским божеством («раскаты молодые», «ветреная Геба»; «Их всех поработила высь, / На них дохнувшая, как юность»). Кстати, в «мифологической» части обоих стихотворений концовка подготавливается ярчайшей звуковой игрой (кормя… громокипящий; гроза… воротах… дворе… дурея… галерее и др.) и синтаксической игрой на деепричастных оборотах (у Пастернака деепричастный оборот отсылает одновременно к сакральному и профанному коду — «Преображаясь и дурея»[688]). Однако сходство лишь подчеркивает семантическую противоположность. Гроза Пастернака — не Геба, а скорее Медуза: своим взглядом она слепит, ошеломляет, превращает в камень.
Завершающая строфа «Июльской грозы» вначале строится на эллипсисах, неполных предложениях, оканчивающихся вскриком. Затем идет последняя, характерно пастернаковская фраза о грозе, «с себя сорвавшей маску» (ср. «Но вещи рвут с себя личину, / Теряют стыд, роняют честь, / Когда у них есть петь причина, / Когда для ливня повод есть» — «Косых картин, летящих ливмя»). Заметим, что в этом месте по звуку сближаются слепота и умноженное зрение (повязку — пяти зеркал). Упоминание пяти зеркал обычно прочитывается как конкретная бытовая деталь; однако пять зеркал ассоциируются и с пятью пальцами, срывающими маску, и с пятью «шагами грозы» в предыдущих строках («По лестнице. И на крыльцо. / Ступень, ступень, ступень»)[689]. Лицо грозы — лицо остраненной вселенной, «действительности, смещаемой чувством», т. е. лицо поэзии.
Стихотворение «Памяти Демона», открывающее сборник «Сестра моя — жизнь» (1922), обладает многослойным подтекстом, вобравшим в себя реминисценции из Андрея Белого, Блока и других поэтов[690], а также Врубеля и, возможно, других художников. Однако первый и основной его подтекст — разумеется, поэма Лермонтова. Отмечалось, что заглавие стихотворения представляет собой оксюморон. Нельзя сказать «Памяти Демона», ибо Демон — мифическое существо, не могущее умереть: Демон у Пастернака — в определенной мере субститут Лермонтова, которому книга посвящена (и который, в отличие от Демона, воспринимается как живой)[691].
«Памяти Демона» можно рассматривать в контексте полемики Пастернака с демонизмом, моделированием поэтической биографии как театрального зрелища (свойственным, в частности, Маяковскому)[692]. В этой связи любопытно, что стихотворение в значительной мере строится как «антитекст», обращенный вариант, негатив лермонтовской поэмы. Тем самым Пастернак развивает прием, испробованный им в «Июльской грозе».
Критики подчеркивали, что Демон, в сущности, «изъят» из стихотворения[693]. У Лермонтова он назван уже в первой строке поэмы, у Пастернака не назван вообще. В начале пастернаковского текста пропущен грамматический субъект («Приходил по ночам / В синеве ледника от Тамары, / Парой крыл намечал, / Где гудеть, где кончаться кошмару. // Не рыдал, не сплетал / Оголенных, исхлестанных, в шрамах»). Затем герой заменяется тенью (т. е. памятью о себе) и голосом зурны. При этом оба субститута преподносятся как недвижные и/или немые, т. е. отсутствующие («тень не кривлялась»; «зурна… о княжне не справлялась»). В четвертой строфе герой иносказательно определяется как колосс (и отождествляется с Кавказом). Последняя, заключительная строфа опять лишена грамматического субъекта: Демон здесь отождествлен с (неназванным) ветром, пробирающим шерстинки бурнуса, и с (еще не состоявшейся) лавиной. Стихотворение целиком построено на умолчании, эллипсисе.
Этот «основной эллипсис» поддержан рядом приемов. Тамара в тексте также не названа впрямую: она либо предстает в косвенном падеже (от Тамары), либо заменена памятью о себе, могильной плитой («Уцелела плита / За оградой грузинского храма»), либо дана иносказательно (княжна, подруга). Но еще важнее, что стихотворение вообще строится на пропусках, пробелах. В начале второй строфы отсутствует не только грамматический субъект, но и объект: разгадка подсказывается словом крыл в предыдущей строфе, однако из описания следует, что речь идет скорее о руках[694]. Строки «Но сверканье рвалось / В волосах и, как фосфор, трещали» дают классический пример грамматического пробела, причем по смыслу субъектом фразы здесь могли бы быть не только волосы, но и (метафорически) сверканье («сверканье рвалось и трещало»)[695]. Менее заметен, но все же ощутим эллипсис в строке «От окна на аршин») пропущено слово отступив).
Умолчание — не единственный способ трансформации лермонтовского сюжета у Пастернака. Другой способ — семантические обращения. Реминисценции из «Демона» в пастернаковском стихотворении перечислены в работе Смирнова[696], где, однако, не указано, что лермонтовские мотивы у Пастернака во всех случаях инвертированы. Так, Демон у Лермонтова приходит к Тамаре, у Пастернака — от Тамары; у Лермонтова он плачет, и слеза его прожигает камень, у Пастернака сказано, что Демон не рыдал (слова «Уцелела плита» могут относиться к тому, что камень остался неповрежденным). Сцене, где Демон «ходит под окном» Тамары, соответствуют слова «Под решеткою тень не кривлялась». Зурна, которая в «Демоне» звучит, в «Памяти Демона» лишена звука[697] и т. п. Есть и обратные ходы, например, «сверканье… в волосах — Венец из радужных лучей / Не украшал его кудрей». В завершение «Демона» говорится о «сне», «вечном мире», недвижности вселенной, причем недвижность дана образом застывших лавин; у Пастернака сон — удел только Тамары, а лавина готова обрушиться («Спи, подруга, лавиной вернуся») и т. д.
Отметим, что первая строфа «Памяти Демона» перекликается с последней, образуя как бы композиционное кольцо (по ночам — спи; ледника — льдами; Тамары — подруга). Эффект рамки усиливается тем, что семантически связаны первое и последнее слово стихотворения («Приходил… вернуся»). Они даны соответственно в прошедшем и будущем времени: настоящего в тексте нет вообще. Неназванный Демон присутствует в мире стихотворения лишь потенциально. Пастернак последовательно перерабатывает лермонтовский миф в собственный метонимический миф, где Демон оказывается не существом, а безличной силой, «субъективностью без субъекта».
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Глава 2 Картина мира и эволюция поэтического идиостиля Бориса Пастернака (поэзия и проза)[58]
Глава 2 Картина мира и эволюция поэтического идиостиля Бориса Пастернака (поэзия и проза)[58] И все б сошло за сказку, не проснись мы И оторопи мира не прерви. (Б. Пастернак,
3.1. Имена собственные и заглавия в поэзии и прозе Бориса Пастернака
3.1. Имена собственные и заглавия в поэзии и прозе Бориса Пастернака Заглавье было не именем сочинителя, а фамилией содержания. (Б. Пастернак, «Охранная грамота») Заглавия и имена собственные обладают особой силой моделирования мира поэта. Первые — потому что занимают
3.4. «С земли и неба стерта грань…» (Поэтика художественного пространства у Бориса Пастернака)
3.4. «С земли и неба стерта грань…» (Поэтика художественного пространства у Бориса Пастернака) Пастернак — поэт, который стремился максимально гармонизировать окружающий его мир. Вот почему способ представления пространства у Пастернака предельно приближен к
3.5. Краски мира Бориса Пастернака
3.5. Краски мира Бориса Пастернака …магия заключается в употреблении всех красок так, чтобы обнаружилась независимая от объекта игра отражений <…> взаимопроникновение цветов, отражение рефлексов, которые переливаются в другие отражения и носят столь мимолетный
3.7. «Музыка» в последних письмах и стихах Бориса Пастернака
3.7. «Музыка» в последних письмах и стихах Бориса Пастернака Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей. Ибо в смерти нет памятованья о Тебе: во гробе, кто будет славить Тебя? Утомлен я воздыханиями моими: каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими
«Сказать свою душу» стихами…
«Сказать свою душу» стихами… «Гений боли» (А. Йожеф) Узнав о самоубийстве венгерского поэта А. Йожефа, лично знакомый с ним знаменитый английский писатель Артур Кёстлер (1905-1983) в некрологе, написанном для европейских читателей, сказал: «Быть может, беспрецедентное
«Вернуться в Россию – стихами»
«Вернуться в Россию – стихами» «Нас судьба ударила наотмашь…» Поэзия русского зарубежья часто представляется выдающимися именами и непревзойденными творениями М. И. Цветаевой, В. Ф. Ходасевича, Г. В. Адамовича и др. Но история русской эмигрантской поэзии не прервалась
«Двух соловьев поединок»: О поэтической глухоте в «Определении поэзии» Бориса Пастернака[**]
«Двух соловьев поединок»: О поэтической глухоте в «Определении поэзии» Бориса Пастернака[**] В стихотворении Пастернака «Определение поэзии» (из цикла «Занятья философией» книги «Сестра моя — жизнь») поэзия «определяется» как звуки и эмоции, прежде всего связанные с
Указатель произведений Бориса Пастернака
Указатель произведений Бориса Пастернака ПОЭЗИЯАвгуст: 34, 35, 256.Баллада: 222.Близнец в тучах: 60, 61, 123, 252.Близнец на корме: 60, 61.Близнецы: 60.Болезнь: 83.В больнице: 51, 83, 222, 240–247, 250, 251.Вакханалия: 222.Весна («Что почек…»): 51, 153.«Весна. Я с улицы, где тополь удивлен…»: 236.Вокзал: 50, 51.Волны:
3.1. От «сложного» к «простому» и обратно: Об эволюции художественной системы Бориса Пастернака[**]
3.1. От «сложного» к «простому» и обратно: Об эволюции художественной системы Бориса Пастернака[**] Несмотря на то что, по мнению Ю. М. Лотмана, большинство поэтов проделывает путь от сложности к простоте, такого феноменального развития, как у Пастернака, мы не найдем ни у
3.3. Еще раз об «эстетике небрежности» в поэзии Бориса Пастернака[**]
3.3. Еще раз об «эстетике небрежности» в поэзии Бориса Пастернака[**] Если б быть мне косноязычным, как Дант или Петрарка! В. Маяковский. «Себе, любимому, посвящает эти строки автор» Мое стремление обратиться еще раз к знаменитой статье М. И. Шапира «Эстетика небрежности в
3.5. О том, как живет и работает пастернаковская лестница: К вопросу о феминизации пространства в художественном мире Бориса Пастернака[**]
3.5. О том, как живет и работает пастернаковская лестница: К вопросу о феминизации пространства в художественном мире Бориса Пастернака[**] Дитя, нам горестно и больно Всходить по лестнице любви. А. Блок В своей книге «Поэт и проза. Книга о Пастернаке» [Фатеева 2003: 268–281] я уже